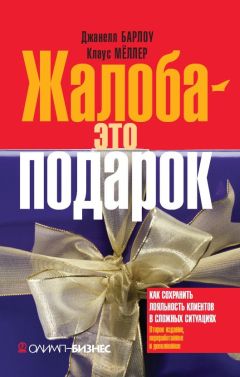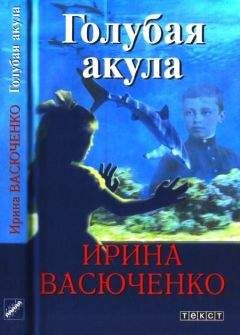Чего-то я недоговариваю. После той прогулки душа не на месте. Не нравится мне Сермяга. Кем нужно быть, чтобы перемениться к человеку за то, что посшибал головки полсотне сорняков и невзлюбил плохо обученную слюнявую псину? Ругаю себя, через силу расточаю подопечному любезные улыбки, подавляя зевоту, слушаю рассуждения, ясные, логичные, всецело посвященные собственной персоне рассуждающего. Но свист прута слышу. Перед глазами опять и опять — изувеченные ромашки на обочине и отутюженные — на брюках, злой вызов в углах бесцветных губ, слабых, упрямых… Что-то мне приоткрылось важное? Или открытие состоит в том, что я капризная неврастеничка?
А встречи все чаще. У Сермяги своего рода бзик: он не может решить, вступать ему в ряды КПСС или не надо. Мы часами бродим по улицам, обсуждая сей глубоко безразличный для меня предмет.
— Видишь ли, я неплохой специалист. Не только хорошо умею то, что делаю, но и мог бы гораздо больше. Надеюсь, ты не считаешь меня хвастуном?
— Нет. Ты дельный, это за версту видно.
— Спасибо. Но пойми, возможности такого рода требуют реализации, без нее все прокисает. Пять, от силы десять лет рутины, и обо мне можно будет сказать только то, что когда-то у меня были способности. Или не было. Это уже не будет иметь значения. Понимаешь?
— Да.
— Но допустим даже, что я решился бы ждать и терпеть. А чего ждать? Смотри: из разряда молодых специалистов я уже вышел. Если делать рывок, теперь самое время. А партбилет и через полстолетия будет так же необходим. Без него продвижение в любой области сомнительно, а когда работаешь с иностранцами — это же идеологический сектор — тут перспектив вообще нет. Тогда зачем было учиться? Чтобы состоять мальчиком на побегушках при болване-начальнике, который ни черта не смыслит, но с проклятой красной книжечкой всегда будет стоить больше, чем я со всеми своими знаниями, планами, энергией? Ты меня слушаешь?
— Да.
— И что бы ты посоветовала?
— Как я могу советовать? Эти вещи каждый решает для себя. По-моему, ты уже решил. Так действуй! Зачем зря мучиться?
— Ничего я не решил! Легко сказать — “действуй”! Противно же. Это такая клоака… Ты-то, небось, не вступишь? Не собираешься?
— Нет.
— Конечно, ты женщина, вам не обязательно… И если посмотреть на дело проще, даже циничнее, можно считать такой поступок своего рода стратегическим ходом. “Париж стоит обедни”, а? Ветер какой… До костей пробирает. Тебе не холодно?
— Нет.
— А я вечно мерзну. Привыкнешь к теплу, потом изволь возвращаться в этот жуткий климат. Тоскую о Кубе, прямо сил нет!
Берет под руку, жмется зябко. Жаль его, в сущности. Права Вера: “потерянный”. Но сколько может продолжаться такое безысходное, неуместно задушевное говорение все об одном: как бы и невинность соблюсти, и капитал приобрести? Да не знаю я! И он не знает. По-видимому, обкатывает на мне аргументацию, которой надеется уломать не меня, а собственную совесть. Стало быть, таковая существует. Это делает ему честь. Вот только… ветерок-то на самом деле мягок и тих. Мне можно смело об этом судить: обычно именно я начинаю мерзнуть первой, когда прочим смертным еще жарко. Ладно, пусть кубинские навыки, пусть этот ласкающий зефир после Гаваны кажется ледяным бореем, а все же не слишком ли он льнет? Господи, сделай так, чтобы мне это показалось! Что я Верке скажу? Она там сидит одна, смотрит мечтательно на облака и верхушки пальм, придумывает, что бы еще утешительное, веселое, ласковое написать ему, которому здесь так холодно! Конечно, она поручила его сестре, да много ли от нее проку? Ан Сермяга, как сеньор воистину деловой, похоже, начинает подумывать, что за неимением “мучачи с яблочной кожей” приспособить можно бы и сестру…
— Я уполномочен передать тебе приглашение. В субботу у Зенина день рождения. Мы званы в какой-то особенный ресторан. Он в укромном месте, его мало кто знает, народу там немного, готовят изумительно… Зенин им гордится, как своей находкой. И настаивает, чтобы ты там была!
Настаивает? Зенин? Странно. Мне всю жизнь слишком многое казалось странным, а в последнее время я, похоже, вовсе перестала понимать, что к чему. Э, какая разница? Пойду. Если Зенин положил на меня глаз, а Сермяга готов помочь приятелю, это загвоздка, но не такая кошмарная, как то, что я предположила. С Зениным как-нибудь разберемся: он змеюка, но умница. Однако я думала, что из всех мыслимых дам его волнует только Ася, их не слишком ясные мне старинные счеты. Не далее как на прошлой неделе, когда мы столкнулись у Томки, Сергей долго язвительно инкриминировал мне какую-то глупость, когда же, наконец, выяснилось, что он перепутал меня с другой Аськиной приятельницей, пожал плечами:
— Виноват! Но дело в том, что Анастасия — явление такого масштаба, рядом с которым легко перепутать тебя с Аллой, Тамарой или кем угодно другим. Не во гнев будь сказано, эти различия в подобном соседстве несущественны!
Имея все права разозлиться, я была тронута. Ведь редкость… А при том, что эти двое расстались давно и, видимо, окончательно, редкость вдвойне. Да и вообще Зенин мне импонирует. Его экспансивность в ледяной броне вежливости, легкие точные жесты, подчеркнуто старомодная речь, даже птичья резкость голоса и высокомерные замашки вкупе создают впечатление весьма интенсивной, если не трагической внутренней жизни. Что-то там кипит в, кажется, наглухо запаянной колбе.
— Рад видеть вас, сударыня, не в интерьере жилища госпожи Клест, а, смею думать, на более подобающем фоне. Позволено ли сознаться, что дивлюсь вашей столь тесной дружбе?
— Не вижу, почему. Тамара…
— Более чем замечательная особа! Достойная всяческого восхищения! Но дух амикошонства, царящий окрест нея, как мне представляется, делает разумное общение затруднительным.
Мы сидим в знаменитом ресторане. Как профану, мне мудрено судить о его выдающихся достоинствах, однако то, что на тарелочках, вкусно. За столиком нас трое — виновник торжества по сему поводу заявил, что качество гостей предпочтительнее количества оных. Хрупкий денди мальчишеского роста с лицом ребенка и скользящим, но цепким взглядом едва ли не инквизитора, Зенин нынче еще нервнее и велеречивее обычного. Его веселость трудно разделять, такой натянутой она кажется. И напитков многовато.
— Португальский портвейн! — со страстью в голосе восклицает Сермяга. — Помнишь, мы спорили? Я тебе говорил, что портвейн может быть не пойлом, а напитком богов? Сейчас ты в этом убедишься! Ну? Что я говорил?! Нет, до дна! Первый тост за новорожденного!
— Повторим? Признайся же, вкусно? Саша, ну почему ты всегда такая сдержанная? Как на дипломатическом приеме! У нас дружеская пирушка, это лучшие минуты жизни, когда и забыть грусть, если не сейчас? Ура! Улыбнулась!
— А вот и шампанское! Бокал за прекрасную даму, удостоившую нас своей улыбки! — Зенин наливает, и прикладывается к ручке, и мы чокаемся, и он тотчас снова наполняет, теперь это маленькие коньячные рюмашки.
— Покорнейше прошу оценить этот коньяк! Такой вы едва ли когда-нибудь пробовали, мадам… Нет-нет, я буду безутешен, если ты откажешься!
Голова уже кружится. В желудке бродит адская смесь — зря я поддалась на уговоры, надо было держаться чего-нибудь одного. Рука Сермяги, хотя ей там не место, пристроилась на спинке стула у меня за спиной. Испытующий взгляд Зенина не отрывается от моего лица. Да они же меня спаивают! Нарочно! Зачем?
Щеки горят, в глазах, небось, кочуют туманы… Однако напоить “председательницу оргий”, во время оно, не теряя присутствия духа, глушившую далеко не португальский портвейн, а то и “Солнцедар” наравне с такими титанами как Катышев и Скачков, этим пижонам слабо. Правда, я уж не та. Но пока я в сознании, мозг будет работать четко. Такое свойство. Сейчас мы его используем.
— Еще коньяку, сударыня?
— Нет, господа, шампанского!
Теперь не только они, но и я слежу за ними. Переглядываются. Что это значит? “Готова, можно брать голыми руками!”? Это кто же из вас такой прыткий? Зенин? Нет, — вдруг понимаю, — он так мараться не станет. У него иная корысть. В памяти всплывают его едкие замечания. Ну как же, поэтическая натура, оскорбленная грязью житейской! Он переживает период острой мизантропии. Во всех его речах превалируют общие соображения о людском ничтожестве, подкрепляемые конкретными примерами. Сейчас Сережа Зенин, эстет чертов, горько облизываясь, сервирует себе еще один такой примерчик. Его так называемый друг, этот сентиментальный, добропорядочный, нежно влюбленный Леня вот-вот, как последний паскудник, потащит в койку полубесчувственную сестру своей любимой. А эта якобы недотрога, мнящая себя невесть кем, подруга самой Анастасии, пробудится завтра с похмельной тошнотой в объятиях сестрина любовника. Сколько калорийной пищи для презрения! Оно нажрется, как удав, и может впасть в спячку хоть до весны к вящей славе своего коварного обладателя…