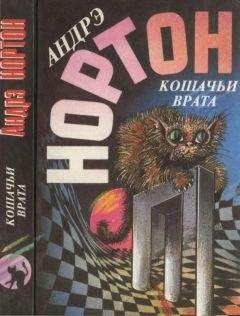— Ты, мужик, в запретный круг въехал, — охотно объяснил горный бродяга. — Тормоза отпусти, скатись метров на десять ниже — она и заведется. Дальше все равно не проедешь. И не пытайся. Дальше только пешком. Ходить-то не разучился? Поди, из кухни в зал на джипе ездишь?
— Какой круг? Что здесь происходит?
— Леший шалит, — сказал турист с одобрением и, раскачиваясь как метроном, шурша штанами, потопал вниз.
— Леший. Какой к черту леший?
Джип скатился вниз и тотчас же завелся.
Играя желваками, Папашин бросил машину вперед, пытаясь с разгону перепрыгнуть невидимую границу. Но джип, словно в вату, уткнулся в упругий воздух.
Несколько раз хозяин ущелья повторял попытки, но с тем же успехом.
Не то чтобы страшно, а досадно. Главное, непонятно — кому сунуть, чтобы пропустил. Здесь, у невидимого порога, случилось нечто ужасное: кончилась власть денег. И ты уже не всесильный Папашин, а вроде бы постороннее ничтожество.
Еще бы не досадно.
Подошедший лесник стоял поодаль. Заложив руки за спину, простоволосый, почтительно наблюдал за происходящим.
— Черт с ним, — наконец сдался Папашин, — оставим машину здесь. Пешком прогуляемся. Снежком похрустим. Полезно для здоровья.
— Ович, ружья брать не советую, — как бы извиняясь, сказал лесник.
— Это еще почему? Или не разрешаешь?
— Я-то всегда — пожалуйста. Только дальше второго родника с ружьями не пройдете.
— А это что за чепуха такая?
Действительно: чепуха. На щите, где раньше была схема туристического маршрута, нарисовано ружье, перечеркнутое красным крестом, и надпись: «Охота на охотников разрешена круглый год без лицензии».
— Пахомыч, что за бред? Твое творчество?
Всем телом своим лесник изобразил крайнюю степень возмущения.
— Убери эту пропаганду и агитацию. Не позорь перед гостями. Хорошо еще по-нашему не понимают. Стыдобища, понимаешь.
Со скорбной миной лесник продемонстрировал перебинтованную руку и грустно сказал:
— Пробовал.
— Что значит: пробовал?
— А то, Ович, и значит: странные дела творятся в ущелье.
Следом за Папашиным полюбоваться плакатом вышли из джипа два испанца. Один на Пабло Пикассо похож. Только с усами. Другой — на Сальвадора Дали. Только без усов.
Полюбовались — потопали вверх. У второго родника стволы карабинов засвистели. Словно кто в полый ключ подул. Или вьюга в трубе заплакала. А ветра между тем нет. Да и карабины в чехлах. Задребезжало в душах охотников смутное предчувствие беды. Проснулись забытые суеверия.
Испанцы дальше не пошли. Родником, бьющим из-под ели, заинтересовались. А Папашин набычился. Очень его оскорбило, что ущелье, в которое он вложил прорву денег, так нагло ведет себя с ним. Прет Папашин дальше, как танк. Торит тропу. Мимо страха — пузырем рубаха. А ствол уже не свистит — скулит. И с каждым шагом все громче, все выше. Как закипающий чайник со свистком.
Вдруг — хлопок, другой, третий. А из патронташа с фырканьем одна за другой вылетают, крутясь, дымящиеся гильзы.
Ф-р-р-р! Ф-р-р-р! Как фазаны из зарослей.
Пригнувшись, Папашин бросился назад. Скачками. И только пересек невидимую черту, патроны перестали самопроизвольно взрываться.
Лесник Самохвалов в стороне стоит отрешенно. Вещает, как тень отца Гамлета:
— Я предупреждал. Слава богу, живы. Могла бы и беда приключиться. Выше третьего родника вообще никому хода нет.
Осмотрел себя Папашин, ощупал. Прислушался к самочувствию: кажется, травм, несовместимых с жизнью, нет. Говорит, придерживая дрожащей рукой дрожащую челюсть:
— Как это хода нет? Что это такое?
— Страх, — отвечает сумрачно Самохвалов. — Такой страх, что кубарем с горы катишься. Топором станешь баловаться — обязательно ногу посечешь. Бумажку выбросишь, костер ни к месту разведешь — домой вернешься, рюкзак откроешь, а он всякой гадостью набит. Туристы в ущелье носа не суют. Есть два-три отчаянных, так тех Он даже в третий круг пускает.
— Да кто — он?
— Я же говорю — страх.
— А что же там? В третьем круге?
— Зверье всякое. Со всех гор сбегаются. Недавно в бинокль бурого медведя видел. Ей-богу, не вру. В малиннике. Барсы вокруг Лавинного пика так и хороводят. А я думал: их всех перебили. О козлах, еликах уже молчу.
— А ты что же?
— И я как все. Без ружья до третьего круга и не дальше. Есть одна тропа — до самого Лавинного пика можно дойти. Только с нее ни на шаг в сторону нельзя сойти. Шагнешь — и вот он, Страх. Замечаю, Ович, третий круг расширяется. Неделю назад Он до расщепленной сосны пускал, а сегодня — только до белого камня. Вытесняет.
Набрал Папашин из дымящегося патронташа уцелевшие патроны, зарядил карабин и, не целясь, разрядил обойму по горам. Снег осыпался с лап елей. Сначала с ближайших, а потом — с дальних, в которые попали пули.
Горы — они большие, не промахнешься.
— Зря это вы, Ович, — сказал, побледнев, лесник. — теперь Он вас особо приметит.
— Это мы еще посмотрим — кто кого, — с вызовом сказал Папашин. Но голос дрожал. Ствол карабина тихо засвистел. Видимо, Страх принял вызов. Папашин отступил на шаг. Ствол умолк. Но через несколько секунд снова загудел. — Да пошел ты! — крикнул, пятясь, хозяин ущелья.
Закинул карабин за спину, повернулся и быстро пошел прочь. Но ствол продолжал свистеть. Когда Папашин с испуганными гостями садился в джип, зазвонил сотовый телефон:
— Ович, беда! — кричал управляющий. — Горим, Ович!
Дружно, разом загорелись все охотничьи магазины, разбросанные по городу. Минута в минуту. Выгорели — быстро, шумно, с тарарахом — дотла.
Каким-то чудом от семи магазинов сохранилось лишь чучело медвежонка, забавного малыша, стоящего в грозной позе на задних лапах.
В метрах пятнадцати от остановки горел джип, размерами превосходящий средний танк.
Обычно возле потерпевших аварии иномарок собиралась злорадствующая толпа потомственных пешеходов.
Но на этот раз у людей, ждущих общественный транспорт, это событие особого интереса не вызывало. Лишь пенсионер с видом японца, наблюдающего за цветением сакуры, гадал — загорится ли ветка тополя, под которой полыхал джип? Листья пожелтели от жара, но пламя не доставало их.
Принцип грустной красоты.
Автобусы объезжали горящую машину. Двери со скрежетом раскрывались, и горластые кондукторы, как принято в южных городах, азартно рекламировали маршрут. Пассажиры втискивались в салон и уезжали по своим делам. Так обыденно и спокойно, словно ежедневно на этом месте сгорало по иномарке.
Водитель, с отрешенным видом контуженого артиллериста отвернувшись от пожара, пытался дозвониться до кого-то по мобильному телефону. Лицо его было спокойно, но колени дрожали. Видимо, дрожали и руки. Ему никак не удавалось набрать нужный номер. Он чертыхался и набирал снова.
Его подруга набирала в пластмассовую бутылку из мелкого, забитого мусором арыка грязную воду и плескала ее в открытую дверь салона, словно в гудящую деревенскую печь.
Горя их никто не разделял и на помощь не спешил.
Сирена пожарной машины, застрявшей в пробке на параллельной улице, уже давно тоскливо трубила осенним изюбрем.
Наконец пожарные прорвались. Быстро и скучно затушили практически выгоревшую машину и уехали на очередной пожар.
Подъехал эвакуатор. Погрузил и увез сгоревший остов. С него густо летела шелуха растрескавшейся краски. Остов закопчен, а шелуха белая, как снег.
Лужа, запах бензина и гари. Смерть джипа была так же обыденна, как и смерть человека.
Время от времени в городе случались пожары.
Горели дома. Горели и автомобили.
И это никого не удивляло. Пока в одну ночь ни выгорели дотла четыре автостоянки и один автомобильный рынок. Город пропах жженой резиной. Не самый приятный аромат. Хотя и до этих событий город не благоухал.
Все чаще машины без видимых причин загорались средь бела дня.
Стоит себе в пробке, стоит, и вдруг — вспыхивают одновременно все пять колес, включая запасное. Бросай машину и спасайся, пока огонь не добрался до бензобака. Беспомощные соседи по пробке с ужасом смотрят на факел. Бесполезно выбираться из этих торосов. Иномарки самых отчаянных уже скособочились по арыкам. Остается надеяться, что пробка чудом рассосется, хлынет ливень или к горящей машине пробьются пожарные и не дадут огню распространиться.
В день весеннего равноденствия пробка на пересечении главных улиц полыхала сутки. Днем с гор был виден черный чад, а ночью — багровый крест. В этот день на телефон доверия в городскую полицию позвонили из министерства странных дел. Мужчина, говоривший рублеными фразами, так и представился:
— Вас беспокоят из министерства странных дел. С кем имею честь? У меня важная информация.
Сумасшедшие на телефон звонили часто. Но дежурный был человеком интеллигентным. А интеллигентный человек интеллигентен со всеми. Подавив раздражение, он посмотрел в потолок, отчего стал похож на святого Себастьяна, пронзенного очередной стрелой и, выслушав добровольного осведомителя, ответил, стараясь быть спокойным и даже приветливым: