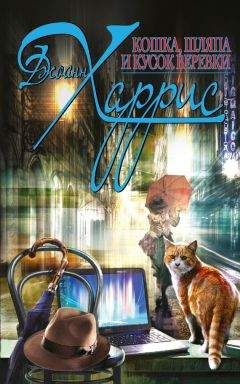– Элис?
Больше Элис не раздумывала. Головой вперед она нырнула в отверстие и пробилась сквозь отсыревший гипсокартон. Глаза заслезились, лицо покрылось коркой пыли. Схватив какую-то деревяшку, она расчищала путь через обломки, пока не вывалилась в темную пустоту. Сделав два шага вслепую, чуть не скатилась с лестницы, но успела ухватиться за перила. Держась за них, как за путеводную нить, невыносимо медленно заковыляла по ступенькам к выходу на улицу. Сзади, почти рядом, зазвучали голоса. Элис в панике ринулась вниз, едва не упала, но все же благополучно добралась до первого этажа и через минуту уже мчалась по Гранчестер-роуд. Во рту пересохло, сердце неистово колотилось, собственная тень летела позади, как преследующий демон. Не снижая темпа, Элис выбежала на мощеные городские улицы, добралась до своего безопасного теплого дома и захлопнула за собой дверь. Только после этого она позволила себе ощутить изнеможение.
Потом, сидя у камина и пытаясь осознать случившееся, Элис снова почувствовала тихий, неотвратимый ужас. Это была не животная паника, как в темноте заброшенного дома, и не суеверный страх перед прекрасными чужаками, друзьями Джинни, но нечто более древнее и тяжкое. Щеки горели, будто на них отпечатались прикосновения Джавы. Она зашла в ванную и посмотрела в зеркало: лицо раскраснелось, как в лихорадке, в глазах застыло странное выражение. Элис ополоснула разгоряченную кожу холодной водой, разделась и встала под душ, принялась неистово тереть себя мочалкой, и страх на время отступил. Однако даже под тугими струями душа не исчезло это настойчивое, странное, смутное желание… Но чего ей хотелось? Элис не знала.
Снова сны, новые сны. Розмари шествует по ним, как генерал по полю сражения; крики умирающих – гимн ее победы. Иногда я пытаюсь что-то писать, иногда просто сижу при свете и пью джин. Мои книги рассказывают о чем угодно, только не о том, как сразиться с нею, как уничтожить ее вместе с приспешниками. Я один, как и было с самого начала. Полки уставлены томами, стены увешаны картинами, но ее лицо смотрит отовсюду, ее имя начертано везде.
Ее образ запечатлен в сказках братьев Гримм, в творениях Данте и Шекспира, в легендах всех народов и времен, сквозь которые она шествовала, пожирая жизни, внушая страх и любовь. Я молюсь о спасении, но слышу лишь завывание бездны, ожидающей меня. Слова стынут мертвой латынью на моем пересохшем языке, крест окрашивается кровью с моих губ. Бог сегодня покинул дом. Он гуляет с Розмари.
Прошло много времени, прежде чем я снова увидел ее после той встречи под дождем. Роберт избегал меня, и я его тоже. Возможно, он стыдился своего предательства, но, скорее всего, был слишком очарован Розмари, чтобы помнить о старых друзьях. Я снова взялся за «Небесную подругу», не ведая, насколько истинно то, о чем пишу. Шло время. Наступило лето, короткое, сырое и безрадостное. Я сидел в холодной комнате, натянув на немеющие руки перчатки без пальцев, и пытался забыться в трудах. Я посещал галереи, библиотеки и оксфордский Музей Ашмола, где было выставлено множество прелестных карандашных рисунков Россетти, ходил в кембриджский Музей Фитцуильяма – там, в подвальных запасниках, хранились его «Девушка у решетки» и «Мария Магдалина», а еще «Подружка невесты» Милле. Облик Розмари потускнел, заслоненный красотой этих женских ликов, и теперь вызывал лишь задумчивое сожаление. Я не забыл ее (и кто мог бы забыть?), но временами сомневался, не приснилась ли она мне, и глушил тоску неустанной работой.
Я написал сотни страниц о технике живописи. Прерафаэлиты создавали эффект сияния, накладывая чистые цвета на влажный белый фон, а Россетти применял красный и зеленый карандаши для телесных оттенков; он знал, что нестойкие краски потускнеют со временем, но ему не было до этого дела – его волновало лишь сотворение красоты. Быть может, он боялся бессмертия. Я изучал и натурщиц, этих странных трагических чаровниц – Лиззи Сиддал, Джейн Моррис и Марию Замбако, – пока не запомнил мельчайшие детали образов и биографий. Они и сами были художницами, пленительные и неприкосновенные, безмятежные и волнующие. Они жили в моих грезах, гуляли по моим снам вместе с Розмари. Я исследовал их влияние, листал их любимых поэтов – Мэллори, Теннисона и Китса, перечитывал сказки братьев Гримм, греческие и римские мифы, углублялся в темный мир фантазий, откуда они явились, открывал для себя работы Юнга, подстраивая этот материал под свои теории. Я перестал встречаться с друзьями, отменил большинство лекций, сделался настоящим затворником, поглощенным одной страстью, и надеялся закончить «Небесную подругу» к середине зимы. Дополнительные средства я зарабатывал, публикуя статьи в университетских изданиях по истории искусств. Вымысла было больше, чем правды, в этих странных работах для собственного удовольствия, где важна не методика, а нездоровая тяга к сенсациям, отсутствующим в моей размеренной жизни скромного ученого. В академические сочинения я вкраплял фантастические истории, все более мрачные и дикие. Завершился год и начался следующий, а я продолжал писать – вплоть до смерти Розмари, случившейся в августе, и гибели Роберта зимой 1948 года.
До весны я жил в преддверии ада. Потерял счет времени. Кажется, прошел ровно год после того, как я вытащил Розмари из Кэм, – и вот ранним утром по пути в любимую галерею снова оказался на том самом мосту. Я кутался в пальто, мой нос распух и покраснел от простуды, не отпускавшей с зимы, глаза за тяжелыми линзами очков слезились. Вдруг в памяти всплыл образ, бесплотный, как пар от дыхания: девушка в белом, бледное лицо, темные глаза, открытый рот, – и я увидел ее в воде, разглядел изгиб обнаженной руки, принял плеть водорослей за прядь волос… Моргнул и неловко, одной рукой, протер очки.
Но там действительно что-то было, среди плавучего мусора у водослива – должно быть, тюк тряпья или бревно… Воспоминание о том апрельском дне придало галлюцинации резкость и объемность: я различал обмякшее тело, покачивающуюся в темной воде руку, безвольно запрокинутую шею гораздо яснее, чем позволяло слабое зрение…
Это было невыносимо. Пришлось подойти ближе и выяснить, что там.
Я спрыгнул на берег (рядом были пришвартованы ялики, на которых никто не плавал с самого июля), осторожно ступил на топкую тропу-бечевник и проковылял к воде. Водослив был переполнен, невыносимый смрад почти осязаемо сгущался в воздухе: запах тины, грязи, соли, гнили и всего летнего мусора, утянутого течением под воду, в темное забвение. Прищурившись, я посмотрел на то, что колыхалось в стремительных зеленоватых струях. Ошибки быть не могло – рука, струящиеся волосы, одежда…
– Розмари! – прошептал я.
Но эта была не Розмари. Женщина, которую я увидел у моста Магдалины, давно состарилась, ее волосы поседели и истончились, бледная рука, привлекшая мое внимание, была короткой и грубой, туловище вдвое толще стройного тела Розмари. Открывшаяся взору мертвая плоть, зеленовато-белая и бескровная, походила на известь, изорванная одежда обнажала ноги и грязное нижнее белье. Внезапно я ощутил жалость к несчастной старухе, так жестоко выставленной под яркий свет апрельского утра; жалость, но не ужас. В некотором смысле я был рад, что нашел ее – женщина, умершая столь немилосердной смертью, получила от меня хоть каплю сочувствия. Позже, когда приехала полиция, я ощутил ужас и отвращение, но в тот миг утопленница казалась мне почти Офелией, окутанной водорослями на илистом ложе смерти, обратившей бледное неподвижное лицо вниз, к таинственным глубинам реки Кэм. И тут игра моего воображения была грубо оборвана. Неожиданное, неестественное движение текущей воды распутало водоросли, удерживавшие тело, и оно безвольно перевернулась на спину – словно усталая немолодая шлюха.
Это длилось лишь мгновение; в следующий миг я упал на колени в высокую сырую траву, кашляя и извергая блевотину. Очки соскользнули, прошиб пот, невзирая на холод. Я говорил уже – я не герой; меня выворачивало наизнанку, лицо горело, руки тряслись от страха… Меня пугала не сама несчастная жертва; я не боялся, что она может подняться и прикоснуться ко мне (хотя порой готов был поверить в нечто подобное), – я боялся твари, которая ее загрызла.
Я так и не увидел лица утопленницы.
По крайней мере, оно не будет преследовать меня во сне, и благодарю за это небеса. Но тело бедняжки было так обезображено… Даже сейчас, много времени спустя, воспоминание об этом ужасает меня больше, чем кошмары войны. Крови не было. Только кости, похожие на веревки внутренности и жуткая черная дыра на месте грудной полости, почти дочиста выгрызенная. О да, у кого-то был пир.
Я осторожно вытер рот пригоршней жесткой, шершавой прибрежной травы и встал; ноги подкашивались, голова кружилась.
– Помогите! Полиция! – закричал я и побежал обратно к мосту, поскальзываясь и оступаясь на илистом берегу.