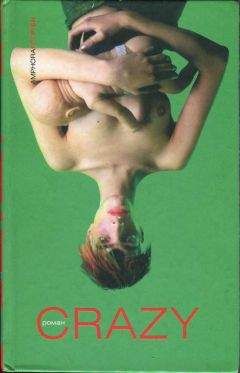12
Мы оказываемся в большом зале. В центре зала — билетные кассы и справочное. Наверху большие синие буквы. Для ориентации. Из громкоговорителя доносится отчаянное: «Номер 27д, подойдите, пожалуйста, к окошку А!»
Мы с Яношем поднимаем головы и смеемся. Интересно, кто он такой, этот таинственный 27д? На стенах множество рекламных плакатов. Рекламируют в основном ежедневные газеты. Ищу газету своего дяди. Вот и она. Под самым потолком, крайняя справа. Яркая сияющая надпись. Вдалеке видны платформы. Наш поезд отходит со второй. Его уже объявили: «Интерсити на Карлсруэ. Остановки в Мюнхене, Пасинге, Штутгарте. Отправление по расписанию в 20 часов 45 минут».
Смотрю на часы: 20.32. У нас еще есть время. Янош бежит к сигаретному лотку в самом конце зала.
Это даже не лоток, а целый киоск. Из него выглядывает маленький бледный человечек. Сверху прикреплена неоновая вывеска в форме сигареты. Надпись гласит: Monsieur de Tabac.
— Что тебе надо? — спрашиваю я Яноша, когда тот устремляется к крошечному окошечку.
— Две сигары.
— Две сигары? Для чего?
— Чтобы покурить. Для нас.
— Для нас? — повторяю я. — Зачем?
— Ну, мы же мужчины. А мужчины курят. Ты еще ни разу не видел «День независимости»?
— Видел. Но они же спасли мир от инопланетян. А мы пока еще таких подвигов не совершили, или я чего-то не понимаю?
— Не совершили. Но мы сделали кое-что похожее.
— Что именно, если, конечно, можно спросить?
— Мы вырвались из интерната. А для нас это было, по крайней мере, не легче, чем спасти Землю от инопланетян. В жизни все относительно.
— Ты правда так думаешь?
— Конечно. И кроме того, свои сигары мы заслужили. Кончаем базар.
С этими словами он подходит к маленькому бледному человечку у витрины.
* * *
— Парни! Может хоть кто-нибудь из вас сказать мне, почему я увязался за вами? — спрашивает толстый Феликс, когда мы стоим на платформе. Уже 20.42. Скоро должен появиться поезд.
— Наверное, потому что мы друзья, — объясняет Янош.
— Друзья? — хрипит толстый Феликс. — Ладно, но что это такое — дружба?
Янош думает.
— Мне кажется, что дружба — это то, что сидит у человека внутри, — выдает он наконец, — ее не видно. Но она все равно есть.
— Да, она все равно есть, — встревает тонкий Феликс, — так же, как, например, день.
— День? — переспрашивает толстый Феликс. — Если уж дружба похожа на день, то что же тогда, дьявол вас возьми, Солнце?
— Да мы, — объясняет тонкий Феликс. — Солнце — это мы.
— Мы Солнце, — это уже Янош, — а что вертится вокруг нас?
— Дружба, — отвечает тонкий Феликс. — Кто как, а я в это верю.
— А кто же отбрасывает свет? Неужели я? — спрашивает Янош.
— Мы все отбрасываем свет. Мы все вместе в пределах нашей дружбы отбрасываем свет.
— До меня все как-то не допрет, — говорит Флориан, которого все называют девчонкой, — а кто-нибудь наш свет видит?
— Мы видим, — говорит Шарик, — и этого достаточно.
— А больше никто?
— Все зависит от того, насколько велика дружба. Иногда и другие видят. Но сначала мы должны увидеть сами. Потому что увидеть можно только то, что освещено. Вот вам и правильный ответ: дружба — это освещение.
— Вся эта тягомотина вокруг освещено или не освещено — это же полный отстой, — говорит Янош. — Наша дружба просто крези. Она-то и привела нас сюда.
— Одна только дружба? — спрашивает Флориан.
— Ну, может быть, еще жареная свинина Шарика. Но в основном, я думаю, именно дружба. Ведь что-то же это было. Может быть, кто-то хочет стать кровными братьями? У меня в кармане есть такая забавная кнопка. Ее вполне достаточно.
— Ну, не знаю, — отвечает толстый Феликс, — мы же не в гостях у Робин Гуда. Да и вообще, сегодня вечером мы уже совершили достаточно безумных поступков. Хватит.
— Но безумных поступков никогда не бывает достаточно, — возражает Янош, — жизнью следует упиваться.
— Упиваться? — спрашивает Флориан, которого все называют девчонкой. — Жизнь разве река?
— По крайней мере, очень похоже, так мне кажется, — отвечает тонкий Феликс.
— Вы что, совсем чокнутые? — вмешивается Янош. — Мы — Солнце? Жизнь — река? А вокруг нас вертится дружба? Вы часом не того? Жизнь — это жизнь. Река — река. И если бы я не знал этого лучше, я бы сказал, что дружба — это дружба. Почему мы вечно пытаемся всё объяснять наглядно? Почему мы всегда хотим разобраться? Разве Господь Бог хочет, чтобы мы что-нибудь понимали? Я думаю, Господь Бог сперва хочет, чтобы мы жили.
— Ты недавно стал верующим? — толстый Феликс поворачивается к Яношу.
— Ну, что-то типа того. Спасибо Леберту. И его дурацким рассуждениям о жизни. Как бы там ни было, я больше верю в Бога, а не в то, что жизнь — это река. Жизнь — это попытка.
— По какому вопросу пытаемся? — спрашивает Флориан.
— Мы пытаемся испытать всё. Вот вам и попытка. А сейчас мы пытаемся стать кровными братьями. И ты — первый!
Флориан выступает вперед. В его глазах мечется сомнение. Он вытягивает палец.
— СПИДа ни у кого нет?
— У меня, — отвечает толстый Феликс, — ты что, до сих пор не знал?
— Кончай треп. От этой кнопки наверняка будет больно.
— Совсем не больно, — говорит Янош, — к тому же ты мужчина.
И тут он втыкает кнопку себе в указательный палец. Появляется кровь. То же самое он делает и Флориану. У того даже глаза сужаются. Потом они трутся указательными пальцами. Затем Янош обходит всех. Сначала втыкает кнопку Трою, потом Шарику и Феликсу. А потом мне. Легкий укол пронзает все тело. Вида крови я не выношу. Мне сразу же становится плохо. Поэтому я отворачиваюсь, когда Янош прижимает друг к другу наши пальцы. Когда все кончено, мы соединяем руки. Кровные братья.
* * *
Подходит опоздавший на пять минут поезд. Первое, что мы слышим, — это резкий свист. Он приближается издалека. А потом на вокзал Розенхайма въезжает и сам состав. Это простой красный экспресс Интерсити. Через окно видно, что сидящих людей мало. Большинство стоит у дверей. Собираются выйти в Розенхайме. Издав шипящий звук, поезд останавливается. Медленно открываются двери. На платформу выходят туристы.
Замбраус вытаскивает из кармана плаща билеты и отдает нам. Повезло так повезло! У нас вагон под номером 29. А мы стоим перед двадцать вторым. Шарик, Трой, Флориан и Феликс несутся вперед. Замбраус, Янош и я — сзади. Янош мне помогает. Что-то я уж очень устал. Как только мы добрались до номера 29, одетый в черное кондуктор втащил нас в вагон. Невысокий мужчина с копной седых волос. Двери закрываются. Поезд медленно приходит в движение.
— Вы друзья? — спрашивает кондуктор, который видел, как Янош меня поддерживал.
— Да, мы друзья, — соглашается Янош, вталкивая меня в купе, в котором уже сидит наша пятерка. Трой успел расположиться со всеми удобствами, на нем все еще кепка от дождя. Глаза закрыты. Он глубоко дышит. Может быть, ему снится лучший из миров. Напротив Троя сидит Замбраус. Из плаща он вытащил книгу: Пол Остер, «Левиафан». Карманный формат. На обложке голова статуи Свободы. Насколько можно судить, Замбраус уже дочитал до половины. Я этой книги не знаю. Этого автора не читал. Слышал только имя. Пол Остер. Какой-нибудь из этих немногочисленных великих писателей. Но и этих немногочисленных за последнее время набралось тысяч несколько. Рядом с Замбраусом сидит Флориан. Он смотрит в окно. По лицу видно, что притомился. Мысли его наверняка где-то далеко. Может быть, он думает о своих умерших родителях. Или о бабушке. Он переводит взгляд на пол. Устало сложил перед собой руки. Справа от него сидит тонкий Феликс. У него поднимается и опускается грудь. Он все время поглаживает левой рукой правый указательный палец. Пытается слизнуть кровь. Палец стал совсем липким. Вид очень неприятный. Можно подумать, что кровь идет носом. На самом краю сидит Шарик. На сиденье широко и привольно расположился его зад. Как раз сейчас Шарик занялся своим «сладеньким рюкзаком». На волю выбираются разноцветные мишки — желтые, красные, лиловые, — они по очереди исчезают за щеками Шарика, похожими на щечки хомяка. Здесь происходит переработка пищи до кашицеобразного состояния. Время от времени виден кончик его жадного языка. От конфет он стал совсем розовым. Мы с Яношем садимся справа от Троя. Мне снова можно пристроиться к окну. Здорово. Снаружи темная ночь. И только луна освещает нас сверху. Редкие ели поднимаются из тьмы. А так — огромная пустыня. Не видно почти ничего.
Соседние рельсы, сначала бежавшие параллельно нашим, сворачивают влево, прервав, таким образом, наше совместное путешествие в Мюнхен. Я погружаюсь в свое сиденье все глубже и глубже. Оно, это сиденье, очень удобное, наверное, здесь можно даже спать. Над каждым местом висит картинка. В основном сюжеты, посвященные истории железной дороги. Надо мной реклама. Курсы английского языка. Talk the words right out of your soul — «Пропустите слова через свою душу» или что-то в этом роде. Я смотрю на Яноша. Его глаз совсем не видно. С ним явно что-то происходит. Руки быстро движутся по подлокотникам. Кисти у него нежные. Видна практически каждая линия. Несколько блестящих светлых волосков. Они заметны даже в скудном освещении купе. Пальцы пробегают по черному свитеру. На лице сияет свобода. Он рад тому, что едет в Мюнхен. Я снова смотрю в окно. На горизонте в темноте блестят красные огоньки самолета. И куда, интересно, он несет своих пассажиров? Чуть впереди, около самых рельсов, четверо ребят развели костер. Удобненько расположились на возвышении и покуривают. Мы быстро проносимся мимо. Мне вспомнилась моя старая школа. Люди, с которыми в ней довелось встретиться. Там меня называли дефектоногим. Из-за смешной походки. Я же всегда подволакивал левую ногу. А им это не нравилось. Иногда мне ставили подножку и ржали, если я падал мордой в пол. А иногда они ждали меня перед школой. Чтобы отобрать завтрак. Бутерброды делала мама. Специально для меня. На них было много сыра и колбасы. Маму было жалко. Я не хотел отдавать еду. Никогда не хотел. Но приходилось. Парни были сильнее меня. Верховодил Маттиас Бохов. Мощный широкоплечий парень с бычьей шеей и вьющимися каштановыми волосами. Если он выпрямлялся, то его рост составлял 1 метр 73 сантиметра. В этот мир он пришел семнадцать лет назад. Все, что он нюхал, видел или слышал, ему не нравилось. А все, что ему не нравилось, не нравилось и остальным. Он был вождь. Баран-предводитель. Его воля являлась законом. Остальные пятеро были всего лишь шавки: Петер Тимольт, 17 лет, Михель Висбек, 18 лет, Штефан Генессиус, 17 лет, Клаудио Бертрам, 17 лет, и Карим Дерверт, 16 лет. Они делали за Маттиаса всю грязную работу. Все, что он хотел, исполнялось. Они поставляли ему девиц, закончили за него девятый класс и убирали с его пути всех недостойных. Например, меня, дефектоногого. Один раз после школы они привязали меня к дереву. Это был бук. Привязали веревкой, украденной у завхоза. И мне пришлось выстоять до вечера, пока на школьный двор не прибежала мама. Она была вне себя. Две недели не отпускала меня в школу. Это было хорошо. По крайней мере, я смог отдохнуть. Немного почитать. Я думаю, Маттиас Бохов все еще существует. Иногда я вижу, как он идет по станции метро с какой-нибудь похотливой телкой. Но он меня не замечает.