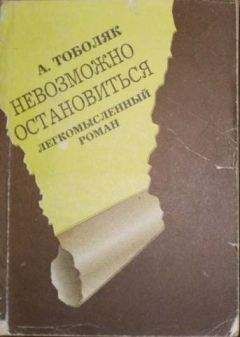Интересно, чем эти двое сейчас займутся?
Теодоров, стоя у тахты, манит Л. Семенову пальцем: иди-ка, иди-ка сюда! и она с дрожащей улыбкой на губах подступает к нему.
Тут искушение опустить занавес. Друг-читатель уже поверхностно знаком с Теодоровым и догадывается, зачем он подзывает Лизу на тахту. (В шахматы, например, они не станут сейчас играть, это точно.) Известны также пристрастия и приемчики Теодорова. Да и сам друг-читатель не вчера родился: он много чего знает. Иное дело, что охраняет и оберегает свой ночной опыт, а не разбрасывает его по страницам, как щедрый сеятель Теодоров. Надо ли насиловать друга-читателя повторением постельных игр? Куда лучше для его здоровья, если сам он, не медля, приступит к прикладным занятиям!
Творческим процессом это называется! Продолжение огромного повествования, начатого в глубокой юности, с десятками неудачных, отброшенных вариантов, с блистательными находками и постепенным накоплением фактического материала. Могло бы надоесть такое длительное, безостановочное созидание — так нет же! Процесс неостановим.
Авторская тяга к самовыражению и познанию если вдруг и ослабевает, то тут же вновь берет свое. Ибо всегда находятся неиспользованные резервы, тонкие способы усовершенствования художественной формы. Не боюсь повториться, но тут очень важно контролировать порывы своего бесноватого: ведь Он в сущности своей ярый индивидуалист и, дай ему волю, не подумает о благе ближнего, лишь бы самому насладиться.
«Мамочки!» — вскрикивает Лиза, расширяя глаза.
«Сама просила… сильно».
«Да! Давай! Действуй, Юрка! Не бойся! Сильней!»
Технически, скажете вы, такое единение доступно каждому и никаких Америк ты не открываешь, примитивный Теодоров! Не спорю, не спорю. Но вы, мозговитые ребята, изобретатели новых половых технологий, объясните мне одну простую вещь. Отчего так часто, в самые сладкие для вас минуты, ваша женщина остается равнодушной, а то и просит вас поскорей покинуть ее лоно? Вы же в высшей степени мужественны, вы неутомимы, вы многоразовы, как «Челленджер» или «Атлантик», — куда до вас слабаку Теодорову! — так почему, повторяю, ваша подружка ждет не дождется, когда вы, наконец, разрядите свою космическую энергию и уберетесь подальше от нее? А ведь не фригидна, о, нет! зря вы ее в этом упрекаете. Предоставьте вашу подружку Теодорову. На спор, приятель, — кто проспорит, того пусть кастрируют! — что она, независимо от возраста, опыта и темперамента, запоет у меня песню любви, как это делает сейчас Лизочка Семенова. О, я знаю божественный код! Он прост и мной уже выболтан на этих страницах. Но не все, кто услышал и понял, умеют им пользоваться. А между тем на него откликнется и юная девственница, и участница греховных свальных компаний, и рекордсменка, прошедшая через супермолохи… да-а!
Лежим. Дышим. Окончание главки написано нами с Лизой в бурном, экспрессионистском стиле. Примерно так: о-о! а-а-а! у-у! мм! ох! а-ах! екалэмэнэ!.. любимый!.. милая!.. умираешь?.. не-ет! жми!.. жму!.. давай, давай, давай!
Затем оказываемся в загадочном положении и не сразу соображаем — я, во всяком случае, — как разобрать руки, ноги, головы и тела и что именно кому принадлежит. Но удается все-таки вычленить каждому свое несомненное, а чужого ни мне, ни Лизе сейчас не надо. И вот лежим почему-то валетом: она на животе, я на спине, отходим после потрясения. Я чувствую, что глаза слипаются, не могу даже поднять веки, чтобы взглянуть, сколько им осталось бабулиного благословенного самогона… ухожу, удаляюсь, сейчас исчезну. Но не дано!
«Это что за мерзость!!» — вдруг сильно, пронзительно вскрикивает Лиза. Голос такой, что подбрасывает меня на тахте.
«В чем дело?» — тоже кричу.
Лизонька сидит с перекошенным лицом, двумя пальцами держа на отлете какую-то странную белую штуковину. Я вглядываюсь.
«А что это, черт побери?!» — спрашиваю.
Лизонька кричит — нет, она все-таки не дворянка… хотя, может быть, дворянки не делали таких находок… она кричит:
«Ты что, олигофрен?! Не видишь, да? Это же менструальная повязка! Какая-то тварь оставила тебе на память! А я ткнулась в неё лицом! Лицом!»
«Не может быть», — твердо заявляю я.
«Не может быть?! По-твоему, я сама подкинула, да? Или это Иван Львович нам подложил, а? Сошлись на него!»
«Иван тут, конечно, ни при чем. Подожди, не кричи, пожалуйста. Иван тут, конечно, ни при чем. У него и «дипломата» не было, чтобы принести, — бормочу я. — Но меня в последнее время никто, кроме тебя, золотце, вроде не посещал».
«Врешь! Нагло врешь! В прошлый раз… ты раздеваться уходил… я проверила чистая ли простыня. И ничего не было! А теперь эта мерзость! — Она отшвыривает тряпицу и попадает точно на стол рядом с бутылкой. — Тут грязная тварь валялась! А я, я… позволила тебе после нее… куда угодно… Господи! Скот!» (Вот и я стал скотом.)
«Может быть, это Марусино?» — предполагаю я в отчаянии.
«Он еще шутит! Скот! Чтобы после этого я с тобой… Видеть тебя не желаю!» — вскрикивает, вскакивая с тахты, Зина. То есть Лиза, конечно, Лиза. Мчится вон из комнаты.
«Неужели на улицу? Голяком?» — испуганно думаю я. Но нет, всего лишь в ванную комнату отмываться после меня в нескольких водах.
Я встаю и закуриваю. Затем, взяв старую газету, стараясь не смотреть, чтобы не стошнило, заворачиваю в нее жуткую улику и выношу на балкон. Здесь курю, думая: «Эх, Зина, Зина! Нехорошей ты оказалась рыбачкой. На Курилах наградила триппером, а теперь вот так подвела. Что ожидать от тебя дальше? Ребенка, наверно, привезешь мне из рейса. Эх, Зина!»
В ванной с шумом льется вода. Напор такой, что трубы воют. Небо надо мной ясное и звездное; я разглядываю его с большим уважением и вниманием. Там много для меня неизвестного. «Надо было сослаться на инопланетян, на их проделки», — приходит запоздалая, невеселая мысль.
— Вот так, Илюша, — завершаю я свой рассказ.
Илюша в молодости бывал и не в таких переделках; он тонко чувствует подобные ситуации, он сопереживает, он прекрасный аналитик. Мы сидим в его кабинете, курим. Перед Илюшей на столе стопка авторских рукописей — слова, слова, слова, стихи, стихи, стихи. Половина одиннадцатого; день только разгорается и опять обещает быть солнечным, ясным, нетипичным для нашего июня. Одухотворенный такой день, и Илюша сегодня душевно ясный, как бы очищенный, не в пример мне, от всякой житейской скверны. Все в порядке, считает он. Забавный бытовой эпизод, только и всего. Вот он однажды ночью, в одном интеллигентном доме, перпутал постели дочки и мамы. Договоренность была с дочкой, а попал он в объятия мамы. Дочка утром была ужасно недовольна, нервничала, зато мама помолодела на много лет и распевала песенки. Вот и пойми; добро он принес в этот дом или зло? Но все, в конце концов, уладилось.
— Они отходчивые, — утешает меня Илюша. — Лиза твоя как убежала, так и прибежит. Да ты, по-моему, не особенно переживаешь? — проницательно спрашивает он.
— Умеренно. Есть другие проблемы.
— Долги?
— Угадал.
— Вот это серьезно, — говорит Илюша. — А самое печальное, что ты прервал творческий запой.
— Продолжу. Десятка у тебя найдется на прожитье?
— Десяточка-то у меня найдется, только долгов твоих она не уменьшит, — улыбается просветленный Илюша. — В тот раз ты много просадил?
— Да как… как сказать… давай забудем!
Забыли; и я дотягиваюсь до телефона, снимаю трубку. Звоню в кооперативное издательство. Попадаю на кого надо: это директор Владлен Поликарпович Чердаков.
— Привет, Владлен! — говорю я.
— Кто это? Тоболяк? А, извини, показалось, что Тоболяк. У вас голоса похожи. Он меня терроризирует. Ты тоже, конечно, насчёт гонорара?
— Вот именно. Пропадаю, Владлен.
Чердаков тяжело вздыхает.
— Ну что тебе сказать? Ну, приезжай, что ли.
— То есть? — вскидываюсь я.
— Приезжай, приезжай! Чемодан захвати, чтобы было куда складывать. Постарайся до обеда, а то бухгалтерша убежит.
Он кладет трубку, и я кладу свою, слегка ошеломленный.
— Что такое? — спрашивает Илюша. — Неужто подфартило?
— Похоже на то.
— Ну, поздравляю. — Илюша рад за меня. — А вообще-то, — говорит он задумчиво, — зачем тебе деньги? Ну, сегодня есть, а завтра уже не будет. Дело известное.
— Ну уж нет! — горячо протестует Теодоров, вставая. — На этот раз я их потрачу со смыслом. Отметим сигнал, конечно… так, слегка. А главное — отдам все долги! Оденусь по-новому… смотри, в чем я хожу! Клавдии куш для Ольки. И мотану-ка я, Илюша, на материк. К родителям заеду, к братьям. В Москву загляну, пошатаюсь… да и дела там есть! Да! Именно так и сделаю! — размашисто расхаживает Теодоров по кабинету.
— Что ж, планы хорошие, — одобряет Илюша, но по голосу чувствуется, что очень слабо он верит в осуществимость этих планов, сомневается, по силам ли они мне.