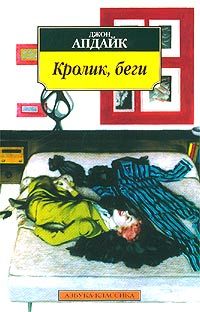– Хватит, хватит, хватит! – кричит Кролик, вступаясь за сестру.
Мать с усмешкой отходит. Они стоят в узком пространстве между двумя домами, теперь их только двое – он и девушка; это Дженис Спрингер. Он пытается объяснить ей про мать. Дженис робко смотрит на него, и, обняв ее, он видит, что глаза у нее покраснели. Хотя их лица не прижаты друг к другу, он ощущает ее горячее от слез дыхание. Они в Маунт-Джадже, позади танцевального зала. На затоптанном участке, поросшем сорняками и усыпанном осколками бутылок; за стеной слышится музыка из репродукторов, на Дженис розовое бальное платье; она всхлипывает. Кролик с тяжелым сердцем твердит, что мать хотела выбранить его, а не ее, но девушка все плачет и плачет, и он с ужасом замечает, что лицо ее начинает расплываться, кожа потихоньку сползает с костей, но костей нет, под кожей всего лишь тающая масса; он подставляет ладони, пытаясь поймать эту струящуюся массу, приклеить ее обратно на место, и когда она падает ему в ладони, воздух становится белым от его собственного крика.
Эта белизна – свет; от солнца у него перед глазами блестит подушка; на опущенной шторе отражаются изъяны стекол. Между ним и окном под одеялом свернулась клубочком женщина. Лучи солнца окрашивают рассыпавшиеся по подушке волосы в рыжий, темно-коричневый, золотистый, черный и белый цвет. С облегчением улыбнувшись, он опирается на локоть, целует ее в толстую мягкую щеку и восхищается четкой структурой пор. В полосах слабого розового света видно, что в темноте он плохо отмыл ей лицо. Он снова принимает положение, в котором спал, но за последние несколько часов он проспал уже слишком много. Как бы нащупывая вход в следующий сон, он через небольшое пространство, отделяющее их друг от друга, тянется рукой к ее обнаженному телу, оглаживая сверху вниз широкие, теплые, как свежий пирог, склоны. Она лежит к нему спиной; ее глаз он не видит. Тяжело вздохнув и потянувшись, она поворачивается, и только тогда он понимает, что она ощутила его ласку.
В утреннем свете они вновь предаются любви, целуясь заспанными вялыми губами; ее груди распластались по ребристой грудной клетке. Соски – поникшие коричневые бутоны. Нагота ее кажется ему чрезмерной. Рядом с изобилием этой блестящей кожи его страсть выглядит слабой и ничтожной, и он подозревает, что она притворяется. Однако она говорит, что нет – сегодня было иначе, но все равно хорошо. Правда хорошо. Он снова прячется под одеяло, а она, расхаживая босиком по комнате, начинает одеваться. Забавно – сперва бюстгальтер, потом трусики. Когда она их надевает, он впервые воспринимает ее ноги как отдельные предметы – толстые, розовые, зыбкие, утончающиеся книзу, как треугольные кулечки для конфет. При движении они отбрасывают друг на друга розовые блики. Она не мешает ему смотреть; он польщен и чувствует себя надежней, уверенней. Это уже совсем по-домашнему.
Громко звонят церковные колокола. Он подвигается к ее стороне кровати посмотреть, как люди в отутюженных костюмах идут в известняковую церковь, освещенное окно которой накануне его убаюкивало. Протянув руку, он приподнимает штору. Окно-розетка теперь не светится, а над церковью, над Маунт-Джаджем, на голубом фасаде небес сияет солнце. В прохладной приземистой тени колокольни, словно на негативе, стоят и сплетничают несколько мужчин с цветками в петлицах, между тем как простые овечки, опустив головы, стадом вливаются в церковь. Мысль о том, что люди решились оставить свои дома и прийти сюда молиться, радует и ободряет Кролика, он закрывает глаза и склоняет голову таким легким движением, чтобы Рут этого не заметила. Помоги мне, Господи. Прости меня. Наставь на путь истинный. Благослови Рут, Дженис, Нельсона, маму и папу, мистера и миссис Спрингер и неродившегося младенца. Прости Тотеро и всех остальных. Аминь.
Открыв глаза навстречу дню, он говорит:
– Тут довольно большой приход.
– Воскресное утро, – отвечает она. – В воскресенье утром мне всегда хочется блевать.
– Почему?
– Фу, – отзывается она коротко, словно ответ ему заранее известен. Подумав немного и убедившись, что он серьезно смотрит в окно, она добавляет: – У меня тут однажды был один тип, так он разбудил меня в восемь утра, потому что в девять тридцать ему надо было преподавать в воскресной школе.
– Ты ни во что не веришь?
– Нет. А ты веришь?
– Пожалуй, да. По крайней мере, я так думаю.
Ее сердитый уверенный тон режет ему слух, и он начинает сомневаться, правду ли он говорит. Если соврал, значит, он подвешен в центре пустоты; эта мысль преследует его, и у него сжимается сердце. Напротив несколько человек в праздничной одежде идут по тротуару вдоль ряда облезлых кирпичных домов – идут не чуя под собой ног? Так ли? Одежда! Они надели свою лучшую одежду; он лихорадочно цепляется за эту мысль: она кажется ему зримым доказательством существования невидимого мира.
– Если ты верующий, то что ты тут делаешь? – спрашивает она.
– А что такого? Ты что, считаешь себя Сатаной, что ли?
От неожиданности она останавливается с расческой в руке, потом смеется.
– Да верь на здоровье, если тебе от этого легче.
– Почему ты ни во что не веришь? – не отстает он.
– Ты что, шутишь?
– Нисколько. Разве тебе никогда, хотя бы на секунду, не казалось, что это ясно?
– Что – ясно? Что существует Бог? Нет. Наоборот, по-моему, ясно, что его нет. Яснее ясного.
– Но если Бога не существует, то почему существует все остальное?
– Почему? При чем тут почему? Просто существует, и все. – Она стоит перед зеркалом, и расческа, оттягивая назад волосы, чуть приподнимает ее верхнюю губу, как в кадре из кинофильма.
– Про тебя я бы так не сказал. Что ты просто существуешь, и все.
– Слушай, может, ты все-таки оденешься, вместо того чтобы валяться и проповедовать мне слово Божие.
Это замечание, а также движение, с каким она, взмахнув волосами, поворачивается к нему, отзывается в нем желанием.
– Иди сюда, – зовет он. Неплохо бы заняться делом, когда в церквах полно народу; эта затея его возбуждает.
– Нет, – отзывается Рут. Она действительно немножко рассердилась. То, что он верит в Бога, ее раздражает.
– Я тебе больше не нравлюсь? – спрашивает он.
– А тебе не все равно?
– Ты знаешь, что не все равно.
– Вставай с моей кровати.
– Я ведь должен тебе еще пятнадцать долларов.
– Ничего ты мне не должен. Катись отсюда подальше.
– Что? Бросить тебя в одиночестве? – Он выпаливает это как бы в шутку и, пока она стоит, застыв от неожиданности, вскакивает с кровати, хватает что-то из одежды, ныряет в ванную и закрывает дверь. Затем выходит оттуда в одном белье и, все еще дурачась, печально повторяет: – Я тебе больше не нравлюсь, – после чего направляется к стулу, на котором аккуратно сложены его брюки. Пока его не было, она застелила постель.
– Вполне нравишься, – рассеянно отвечает она, приглаживая покрывало.
– Вполне – это как?
– Просто так.
– Почему я тебе нравлюсь?
– Потому что ты выше меня ростом. – Она переходит к другому углу кровати и выравнивает покрывало. – Я просто подыхаю от злости, когда эти маленькие женщины, которых все считают такими пикантными, хватают самых высоких мужчин.
– В них что-то есть, – говорит он. – Их вроде бы легче уломать.
– Пожалуй, – смеется она.
Он натягивает брюки и застегивает ремень.
– А еще чем я тебе нравлюсь?
Она смотрит на него.
– Сказать?
– Скажи.
– Тем, что ты не сдаешься. Хоть и по-дурацки, а продолжаешь бороться.
Ему приятно это слышать, удовольствие щекочет нервы, он чувствует себя очень высоким и улыбается. Но привычная американская скромность берет верх, и, скривив губы, он произносит:
– Воля к совершенству.
– Этот несчастный старый подонок, – понимающе отзывается она. – Самый настоящий подонок.
– Знаешь что, – говорит Кролик, – я сбегаю в лавку и куплю нам что-нибудь на завтрак.
– Ты что, намерен тут оставаться?
– А почему бы и нет? Ты кого-нибудь ждешь?
– Никого я не жду.
– Вот и прекрасно. Ты же вчера сказала, что любишь стряпать.
– Когда-то любила.
– Раз когда-то любила, значит, и теперь любишь. Что купить?
– Откуда ты знаешь, что лавка открыта?
– А разве нет? Конечно, открыта. Из-за универсамов эти лавчонки только и могут заработать что по воскресеньям. – Он выглядывает из окна. Так и есть, дверь на углу открывается, и из нее появляется человек с газетой.
– У тебя грязная рубашка, – говорит Рут.
– Знаю. – Он выходит из полосы света, льющейся из окна. – Это рубашка Тотеро. Мне надо взять дома кое-что из одежды. Но сначала я схожу за продуктами. Что купить?
– А что ты любишь?
Он уходит очень довольный. Что в ней есть, так это доброта Он понял это в ту самую секунду, когда увидел ее возле счетчиков на автостоянке. Уж очень мягким выглядел ее живот. С женщинами вечно натыкаешься на острые углы, потому что им надо совсем не то, что мужчинам, они – другая раса. Либо все отдают, как растение, либо царапают, как камень. На всем белом свете нет ничего лучше женской доброты. Мостовая так и летит из-под ног, когда он в своей грязной рубашке мчится в лавку. А что ты любишь? Теперь она от него не уйдет. Не уйдет, это факт.