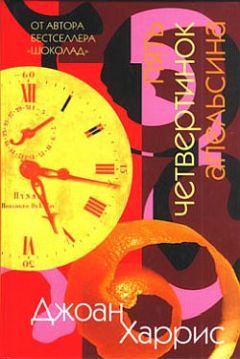Признаться, лишь много позже кое-что для меня прояснилось. И признаться, почти через полсотни лет, когда стала читать альбом.
«Уриа уже знает, — писала она. — Иногда, я замечаю, поглядывает на меня. Жалостливо и с любопытством, как на тварь, которую переехал на дороге. Вчера вечером видел, как я выходила из „La Rép“ с тем, что я у них вынуждена покупать. Ничего не сказал, но я поняла, что догадался. Понятно, он думает, что нам неплохо пожениться. Считает, что нормально, мол, вдовец с вдовой, хозяйство к хозяйству. Брата у Янника нет, чтоб после него взять ферму в свои руки, а женщине одной такое не осилить».
Была бы она нормальной и милой женщиной, может, и заподозрила бы я вскоре нечто этакое. Но милой женщиной Мирабель Дартижан назвать было никак нельзя. Тверда была, как каменная соль, сера, как речная тина; ярость накатывала на нее мгновенно, неукротимо, с неотвратимостью летней грозы.
14.
Больше на этой неделе поездок в Анже не случилось, и Кассис, и Ренетт, казалось, избегали упоминаний о нашем общении с немцами. Что касается меня, о своем разговоре с Лейбницем мне тоже говорить не хотелось, но забыть я его не могла. Мной попеременно овладевали то подозрительность, то странное ощущение собственного могущества.
Кассис нервничал, Ренетт была угрюма и раздражена, вдобавок ко всему целую неделю моросил дождь; Луара зловеще вздулась, и поля подсолнечника стали сизые от дождя. Со дня нашей первой поездки в Анже миновало семь дней. Наступил и прошел базарный день. На этот раз мать в город сопровождала Ренетт, а мы с Кассисом остались и угрюмо бродили по мокрому от дождя саду. Глядя на зеленые сливы на ветках, я вспоминала про Лейбница со смешанным чувством тревоги и любопытства. И все гадала, встречусь ли я с ним еще.
Как вдруг неожиданно это произошло.
Был рыночный день, раннее утро, на сей раз наступила очередь Кассиса запастись провиантом. Рен вытаскивала из ледника увернутые в виноградные листья сыры, мать собирала в курятнике яйца. Я только что возвратилась с реки с утренним уловом: парой небольших окуньков и парой уклеек, которые порубила для наживки и оставила в ведерке у окна. В этот день немцы обычно в деревню не наведывались, и потому, когда постучали, дверь как раз открыла я.
Их было трое; двое мне незнакомых и Лейбниц, теперь очень подтянутый в своей форме, с ружьем через плечо. При виде меня его глаза слегка округлились от удивления, потом он улыбнулся.
Если бы не Лейбниц, я бы тотчас захлопнула дверь перед носом у незнакомых немцев, как Дени Годэн, когда они явились забирать его скрипку. Я бы непременно позвала мать. Но тут был иной случай; я неловко переминалась на пороге, не зная, как быть.
Лейбниц повернулся к остальным и что-то сказал им по-немецки. Как мне показалось по жестам, которыми он сопровождал свои слова, что он намерен осмотреть наш дом сам и чтоб остальные шли дальше к Рамондэну и к Уриа. Один из незнакомых немцев взглянул на меня, но ничего не сказал. Все трое засмеялись, потом Лейбниц кивнул им и, по-прежнему улыбаясь, прошел мимо меня в кухню.
Я понимала, что надо бы позвать мать. Когда приходили солдаты, она всегда становилась угрюмей обычного, замирала с каменным лицом, не скрывая своего недовольства их появлением и той бесцеремонностью, с которой те хватали все, что хотели. А сегодня и подавно. Уж и без них ей угомона нет, только их прихода еще не хватало.
Когда я спрашивала Кассиса, зачем немцы ходят, брат объяснил, что продовольствия становится все меньше и меньше. Ведь и немцам кушать хочется.
— А они жрут, как свиньи, — с презрением рассказывал он. — Заглянула бы в солдатскую столовку — хлеб наворачивают прямо буханками, с вареньем, с паштетом, с гусятиной, с сыром, с солеными анчоусами, с ветчиной, с кислой капустой, с яблоками — ты не поверишь!
Лейбниц прикрыл за собой дверь и огляделся. В отсутствие прочих солдат он уже держался не так подтянуто, уже не как военный. Сунул в карман руку, достал сигарету.
— Зачем пришли? — осмелилась я наконец. — У нас ничего нет.
— Приказ, Уклейка, — сказал Лейбниц. — Отец твой где?
— Нету у меня отца, — сказала я с некоторым вызовом. — Немцы убили.
— Ах, прости. — По-моему, он смутился, а я ощутила даже некоторый прилив гордости. — Ну а мать?
— На заднем дворе. — Я метнула на него взгляд: — Сегодня рыночный день. Если отберете что мы продать хотим, у нас ничего не останется. Мы только на это и живем.
Лейбниц огляделся несколько пристыженно, как мне показалось. Его взгляд скользнул по чистому кафельному полу, по лоскутным занавескам, по выщербленному струганому сосновому столу. Он застыл в нерешительности.
— Я должен забрать, Уклейка, — мягко сказал он. — Меня накажут, если не выполню приказ.
— Скажите, что ничего не нашли. Скажите, что когда пришли, уже ничего не осталось.
— Можно и так. — Его взгляд задержался на ведре с рыбными обрезками у окна. — В доме есть рыбак? Кто? Твой брат?
Я замотала головой:
— Не брат. Я.
Лейбниц удивленно на меня уставился.
— Ты рыбачишь? — переспросил он. — Сколько же тебе лет?
— Мне? Девять, — сказала я, слегка задетая.
— Девять? — В его глазах плясали искорки, но рот оставался строг. — Знаешь, я ведь и сам рыбак, — шепотом сказал он. — А что ж ты тут ловишь? Форель? Карпа? Окуня?
Я мотнула головой.
— Кого же?
Щука — умнейшая из пресноводных рыб. При том, что у нее острые зубы, хитрющая и осторожная, и выманить ее можно только с помощью тщательно подобранной наживки. Ее настораживает любая мелочь: малейшая перемена температуры воды, один намек на движение. Быстро и просто поймать щуку невозможно; если не выпадет случайная удача, вылавливание щуки требует времени и терпения.
— Тогда дело другое, — задумчиво сказал Лейбниц. — Нехорошо, пожалуй, бросать брата рыбака в беде. — Он усмехнулся: — Щуку, говоришь?
Я кивнула.
— А на что ловишь, на мотыля или на мякиш?
— И так, и так.
— Понятно.
Он уже не улыбался; разговор пошел серьезный. Я глядела на него, но молчала. От такого моего взгляда Кассису обычно становилось не по себе.
— Не забирайте то, что мы везем на рынок, — повторила я.
Опять пауза. И Лейбниц кивнул.
— Думаю, мне удастся что-нибудь им присочинить, — медленно сказал он. — Только и ты помалкивай. Иначе мне грозят крупные неприятности. Поняла?
Я кивнула. Баш на баш. В конце концов, не сболтнул же он про апельсин. Я плюнула себе в ладонь, скрепить уговор. Лейбниц без улыбки, с полной серьезностью пожал мне руку; как будто между нами состоялось вполне взрослое соглашение. Я уж было подумала, сейчас он взамен что-то у меня попросит, но он промолчал, и это я отметила с одобрением. Лейбниц не такой, как другие, сказала я себе.
Я смотрела ему вслед. Он шел не оглядываясь. Я смотрела, как он неторопливо шагает по улочке к ферме Уриа, как загасил сигарету о стену флигеля. Чиркнувший кончик озарил серый луарский камень яркими искрами.
15.
Кассису с Ренетт я ничего не сказала о том, что виделась и говорила с Лейбницем. В пересказе пропала бы вся прелесть случившегося. Нет, я хранила свою тайну глубоко в себе, время от времени мысленно возвращаясь, рассматривая тайком как украденное сокровище. С этой тайной пришло ко мне новое, взрослое чувство собственной значимости.
Теперь Кассис со своими журналами про кино и Ренетт с ее помадой вызывали у меня легкое презрение. Корчат из себя больших умников. А чем таким особым отличились? Ведут себя как дети, тешат себя, как маленькие, дурацкими байками. Немцы к ним и относятся как к детям, задабривают всякими безделушками. Меня Лейбниц задобрить не старался. Говорил со мной уважительно, как с равной.
Ферму Уриа разграбили основательно. Отобрали все собранные за неделю яйца, половину молока, пару целых соленых окороков, семь фунтов масла, бочку растительного, две дюжины бутылок вина, плохо припрятанных в погребе за перегородкой, вдобавок кучу тушеного мяса и всяких заготовок. Про это мне рассказал Поль. Я почувствовала легкий укор совести — дядька Поля был главным кормильцем для всей семьи, — и я дала себе слово, что всегда поделюсь с Полем последним куском. Правда, лето было в самом разгаре. Филипп Уриа довольно скоро сможет возместить потери. Да и у меня были заботы поважней.
Апельсиновый мешочек хранился у меня в тайнике. Не под матрасом, где Ренетт по-прежнему прятала, как ей казалось втайне от всех, свою косметику. Насчет тайника я оказалась куда изобретательнее ее. Поместив мешочек в стеклянную банку с завинчивающейся крышкой, я погрузила банку в бочку с солеными анчоусами, хранившуюся у матери в погребе. С помощью бечевки, обвязанной вокруг горлышка банки, можно было, когда потребуется, выудить ее из бочки. Разоблачение мне вряд ли грозило, так как мать терпеть не могла едкий запах анчоусов и обычно посылала меня за ними в погреб.