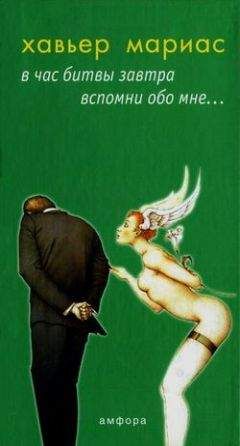И Томас, пораженный этими словами, написанными в 1942 году или даже раньше, сбивчиво подумал: “Это правда, что мы уходим с ними, по крайне мере в первые минуты. Мы не хотим разлучаться, хотим оставаться в их измерении и на их тропе, ставшей уже прошлым, мы чувствуем, как они нас покидают, что они пустились в новое странствие и это мы сами остались в одиночестве, двигаясь вперед потемнелой дорогой, которая их больше не интересует и с которой они сошли; а поскольку мы не можем идти следом – или боимся идти следом, – мы заново рождаемся и делаем первые нетвердые шаги; человек заново рождается всякий раз, когда переживает кого-то из близких, всякий раз, когда рядом случается смерть и влечет нас за собой следом, но ей не удается затянуть нас в пасть моря. Разве бывает близость большая, чем испытанная мною позавчера вечером, когда я прилепился к живой девушке, теперь мертвой, навсегда ставшей призраком и воспоминанием, которое на протяжении моей короткой или длинной жизни будет постепенно блекнуть, а ведь мне тогда захотелось снова овладеть этой девушкой. Кто знает, а вдруг это помешало бы убийце, помешало бы тому мужчине подняться к ней в квартиру, если бы она была там не одна. Если бы я настоял на своем”. Чуть ниже он прочитал: “…История – единство мгновений вне времени”. До конца ему осталось совсем немного, и он быстро пробежал глазами по последним строкам, перескакивая с одной на другую: “Скорее, сюда, сейчас, всегда… ”
И тогда Томас очнулся, поднял глаза и обнаружил, что стоит у этих полок не один – еще два человека листали книги Элиота, каждый свою: тип в костюме в полоску держал в руках То Criticize the Critic [13], а второй, видно только что явившийся, просматривал “Пепельную среду”. Томас решил резко не оборачиваться, а лишь немного отойти в сторону, чтобы незаметно, буквально краем глаза, глянуть на этого второго: тип был мощного сложения, высокий и широкоплечий, гораздо выше Томаса и пижона в костюме, одет он был в дафлкот, на голове берет, как у знаменитого фельдмаршала Монтгомери [14], тогда еще живого, и так же, как у того, сдвинут набок, но без военных знаков различия. Судя по всему, тип был подражателем или большим почитателем фельдмаршала, раз точно скопировал его манеру одеваться. Да и усы у него были такие же светлые, правда, на этом их сходство заканчивалось: Монтгомери Аламейнский, как его начали называть, когда он стал первым виконтом, был худощавым, поджарым, морщинистым, а стоявший недалеко от Томаса мужчина напоминал крепостную башню – ростом, мощью и шириной плеч, к тому же у него были круглые, розовые и гладкие щеки. Он и не подумал снять с головы берет, как поступают воспитанные люди, входя в помещение, и стоял, весьма ненатурально изображая, будто не может оторвать глаз от какого-то стихотворения (“Пепел на рукаве старика…” – мелькнуло в памяти у Тома). Здоровяк расположился справа от него, а пижон – слева (он мог быть также новичком из Сити, который старается подражать старшим коллегам в их манере одеваться), но впечатления, будто они действуют сообща, не складывалось, и Томас задался вопросом: кто из них мистер Тупра, ведь им обоим, как назло, пришло в голову полистать Элиота именно в этом месте и в это время. Том решил подождать, пока кто-то из них двоих сам с ним заговорит, поскольку на студента тут был похож только он сам. Но прошло еще полминуты – никто не обращался к нему и никакого знака не подавал. Между тем он все больше свыкался с мыслью: то, что произошло на самом деле, ничего не значит, а важно только то, как на это посмотрит кто-то другой и какую картину для себя нарисует. Том все больше верил, что катится в пропасть (“И каждое действие – шаг к плахе, к огню…”) и теперь единственная для него возможная точка опоры – мистер Тупра. Том не мог больше ждать и счел за лучшее обратиться к типу, похожему на военного – в конце концов, аббревиатуры самых знаменитых секретных служб МИ-5 и МИ-6 значили “военная разведка”. Он захлопнул книгу и робко, шепотом спросил великана Монтгомери:
– Мистер Тупра, смею предположить?
Но бугай левой рукой указал на второго любителя Элиота, на того, что так старался выглядеть элегантным, и ответил весьма нелюбезно:
– Вон он стоит рядом с вами, Невинсон. И уже довольно давно стоит.
Хотя Томас был еще совсем молодым, ему не понравилось, что здоровяк обошелся без слова “мистер” перед его фамилией, хотя они разговаривали впервые и было бы нелишним проявить к незнакомому человеку минимальное уважение. Еще меньше Тому понравилось, что мистер Тупра в ответ на протянутую ему руку пренебрежительно отмахнулся, словно веля подождать: “Да погоди ты, парень, разве не видишь, что я занят?” Он и не подумал повернуться к Тому лицом, и вообще, поведение обоих только укрепило у студента чувство зависимости от них: они вели себя с ним как с раздолбаем, который явился проситься на работу или умолять о большом одолжении, ведь просто по фамилии принято обращаться лишь к подчиненным, ученикам или стажерам. Тупра, не удостоивший Тома ни взглядом, ни рукопожатием, мягко покачивался с пятки на носок, заложив руки за спину и наблюдая за дамой из Сомервиля, которая все еще ходила мимо стеллажей в поиске нужных книг, но теперь уже не по ботанике, а по искусству, и то и дело наклонялась, чтобы осмотреть самые нижние полки, а так как в те времена юбки существенно укоротились даже у сорокалетних дам, она щедро демонстрировала свои соблазнительные ноги, обтянутые чулками с блеском; на ее ноги Тупра и воззрился – с восторгом и без малейшего стеснения, что обычно позволяли себе скорее иностранцы, например испанцы, чем англичане. Том это понял и сразу же тоже стал преследовать взглядом профессоршу, как если бы заразился блудливым настроением Тупры, при этом ему показалось, что дама не только заметила их внимание, но и не без удовольствия приняла участие в игре, во всяком случае, словно ненароком еще выше задирала юбку, обтягивавшую ее непокорные телеса, то и дело быстро поглядывая на незнакомца, который не пытался скрыть своего восхищения. Тома это сильно удивило, поскольку он знал, что она весьма высокомерно ведет себя с легионом поклонников и славится своей неприступностью, но вот сейчас весьма благосклонно терпела откровенное внимание вульгарного типа, который был к тому же ниже ее ростом (терпела, правда, на расстоянии или, вернее сказать, вроде бы терпела).
Тем временем Томас рассмотрел Тупру получше. Тот был круглоголовым, однако это скрадывалось пышной кудрявой шевелюрой, такой пышной, что отдельные завитки почти закрывали виски. Голубые или серые глаза обрамлялись слишком длинными и густыми ресницами, которые казались приклеенными, а то и накрашенными, и подходили бы скорее женщине. Взгляд был насмешливым, может и против воли мистера Тупры, но при этом достаточно приветливым или оценивающим: такие глаза, если на чем-то останавливаются, никогда не смотрят равнодушно, и люди, на которых падает подобный взгляд, чувствуют себя польщенными, то есть заслужившими особого внимания, словно кто-то разглядел под внешней оболочкой тайну, достойную быть наконец-то разгаданной. Томас Невинсон подумал, что человек, умеющий так смотреть, имеет больше шансов на победу, поскольку именно такой пристальный, откровенный и в меру самоуверенный – или, как говорится, пожирающий – взгляд и должен быть у мужчины; от такого взгляда трудно укрыться, он любого застанет врасплох и, похоже, способен производить неотразимое впечатление на многих женщин – независимо от их социального статуса, профессии, жизненного опыта, красоты, возраста и степени самооценки. Хотя мистер Тупра не был в полном смысле слова красавцем, а главным приемом в его арсенале была наглость, в общем и целом он казался обаятельным, и это общее и целое отвлекало от некоторых его не слишком приятных, или даже вульгарных, если судить объективно, черт: у него был неправильной формы нос, когда-то, наверное, сломанный, а может и не раз сломанный, как это бывает у тех, кто с детства привык к дракам, или занимался боксом, или работал вышибалой и порой получал свое; слишком гладкая и словно полированная кожа вызывала безотчетное беспокойство, к тому же она была непривычного для Англии пивного оттенка, что выдавало южные корни; брови цвета сажи почти срослись на переносице, и Тупра наверняка использовал пинцет, чтобы оставить между ними промежуток; но главным в его лице были необычно пухлые и рыхлые губы, не только лишенные плотности, но и слишком большие, что называется славянские губы, которые при поцелуе податливо осядут и расплющатся, как размятый в руках пластилин, – по крайней мере такое впечатление они производили, к тому же на ощупь такие губы всегда бывают слегка влажными, словно источник этой влаги неисчерпаем. Но долго быть объективным мало кому удается, и тогда отступает на задний план то, что с первого взгляда показалось отталкивающим и неприятным. Найдутся женщины, которым сразу же понравится этот рот и которых он мгновенно покорит, а как раз таких женщин без труда соблазняют мужчины, умеющие пробуждать примитивные инстинкты, поскольку с такими женщинами не приходится ни стараться, ни вести долгую осаду, а достаточно излучать сокрушительную сексуальность – циничную и грубую. Мистер Тупра был молод, но наглость и дерзость делали его человеком без возраста или человеком, который уже много веков оставался неизменным, люди вроде него взрослеют до срока, а то и рождаются уже взрослыми и умеют мгновенно учуять, какие порядки царят в мире – либо хотя бы в том мрачном уголке мира, куда закинула их судьба, – и решают поскорее сбросить с себя детство, посчитав его лишней потерей времени и школой слабости. Тупра был ненамного старше Томаса, но будто бы обогнал его на целую жизнь или даже на две.