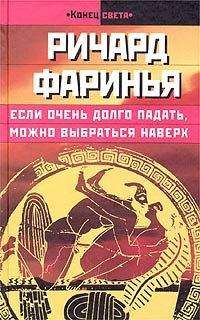— Менестрели, дядя, — объяснил Хип, поигрывая струной бамбуковых штор. — Поэты. Просто красота.
Гноссос подошел к окну и выглянул наружу. У поребрика стоял «фольксваген», набитый зомби. Через запотевшие стекла виднелось шевеление тел. Бардак, не иначе, пусть лучше побыстрее сваливают.
— Слушай, старик, — сказал он наконец, направив указательные пальцы в сторону их носов. — Я очень крут, сечешь? Таких крутых ты в жизни не видал. Я эмир Фейсаль в Константинополе 1916 года, врубаешься, как я крут? Ни один мудак на всех этих горках, — жест включил в себя как Кавернвилльский комплекс, так и весь университет, — не рискнет на меня наехать, такой я крутой. Ясно?
— Хоспдибожмой, — прокричал Фицгор, все еще в полусне, — ну хоть каконибудидиот скажет мне скокщасвремя?
— Вы его видели? — спросил Гноссос, наклоняясь над черной фанерой стола и щипком сдвигая в сторону провод, чтобы дотянуться как можно ближе до подергивающегося лица Моджо. — Посмотрите на этого рыжего невинного засранца, который вот-вот проснется. — И притворным шепотом. — Это племянник Дж. Эдгара Гувера.
Рука Хипа вдруг оказалась на дверной ручке, рука Моджо продолжала гулять вверх-вниз по животу.
— А я очень и очень крут, если ты сечешь в таких делах. Мужик, я неимоверно крут.
— Естественно, — не сдавался Моджо. — Я не хочу подвергать опасности ни малейшую часть вашей жизни, но в то же самое время, если вы поможете мне собрать на нашу встречу тех, кого мы могли бы назвать людьми нашего круга, ведь, в конце концов, на Ричарда Писси произвело большое впечатление…
— ГОСПОДИБОЖМОЙ! — заорал Фицгор.
— Линяем, — сказал Хип.
— Оно будет того стоить, если можно так выразиться…
— Потом, старик, — оборвал его Гноссос, отпустил лампу, подмигнул пришельцам и дернул головой в сторону Фицгора, который, покачиваясь, поднимался на ноги.
— Да-да, конечно, — согласился Моджо, — потом. И мои монографии, изучайте, не стесняйтесь…
Гноссос плотно закрыл за ними дверь и, задвинув оловянную щеколду, стал смотреть через окно, как Хип волочит ноги к автобусу и забирается на водительское место, Моджо вперевалку топает за ним, а таинственные фигуры на задних рядах, придя в движение, трут отечными кулаками запотевшие стекла и пытаются разглядеть внешний мир. В окнах показались сморщенные от света, бледные, как поганки, лица.
— Иисусхристосдевамария, — пожаловался Фицгор, — Ну какой из тебя, к чертям, сосед, а, Папс? Челаэку к одинцати в школу, а друг даж время не можт сказать по-челаэцки.
— Одевайся.
— СкокЩАСВРЕМЯ?
— Почти одиннадцать, давай, шевелись, довезешь меня до школы.
— Чожты, чертзараза, меня сразнеразбдил?
— ПОШЛИ, хватит. — Гноссос вылез из стыренных в землячестве тренировочных штанов с майкой и прошел через кухню, не глядя на груду ненужных виноградных листьев, заплесневевший яично-лимонный соус, пустые банки из-под феты и липкие железные вешалки, служившие шампурами. Перед дверью в ванную он на секунду задержался, посмотрел на нее, вздохнул и вошел внутрь. Надо прочищать канализацию, так сказать.
— Что за пацаны? — крикнул Фицгор, натягивая одежду.
— Пылесосы продают.
— Господи.
Гноссос все еще держал в руках коричневый пакетик «Смеси 69». Усаживаясь на стульчак, он несколько раз бездумно перевернул пакетик вверх-вниз и принюхался. Как они меня нашли? Базар про Будду. Предположим, они его действительно знают. Херня. Все равно предположим. Матербол. Не пригодятся ли для связи?
— Папс!
— Чего?
— Как дела?
— Какие дела?
— Сам знаешь.
Прыщ-садюга. Не может простить мне тот ужин. Каждое утро одно и то же. Не отвечать.
— Папс!
Спокойно, думай о чем-нибудь другом. Моджо, фу, вонь, как из преисподней.
— Папс!
— Да что тебе надо, черт? И шевелись давай, уже, наверное, одиннадцать.
— Я просто хотел спросить, как ты себя э-э чувствуешь.
— Нет, я еще не просрался.
— А-а.
— Что, черт возьми, значит «а-а»?!
— Просто я подумал, может, ты уже. Я почти готов. Чего ты тогда так долго там сидишь, если не гадишь?
— А-а гаааааааааа…
Гноссос голяком вывалился в кухню и тут же взвился в воздух, раздавив босой пяткой склизкий нефелиум, который его разум принял за улитку. Когда он уже почти влез в толстые вельветовые штаны, Фицгор спросил:
— Ты собираешься когда-нибудь распечатывать окно? Надо впускать по ночам воздух — воняет, как на сырной фабрике.
— Окно останется как есть.
— Дышать же нечем.
— Надо, чтоб было сыро и тепло, иначе набегут домовые.
— Ты просто припух, когда приперлась твоя англичанка стучать среди ночи в окно.
— Правильно, старик, видишь, как все просто. Теперь давай, бери куртку.
— То есть, чего ей раздувать целое дело из-за того, что ты позанимался с ней любовью?
Рука Гноссоса застыла на молнии парки. Тщательно отмеряя слова, он сказал:
— Вы с Хеффалампом как сговорились, мать вашу. Я не занимался с ней любовью, я ее ВЫЕБАЛ. Разница в качестве, а не, черт бы вас драл, в градусах.
— Семантика. Какая разница, она наверняка до сих пор по тебе сохнет. Ну и как она, ничего? Я сам на ней слегка залип.
— Почему, ну почему, — с мольбой воздевая руки, воззвал Гноссос к потолку, — должен я нести на себе столько холостых крестов?
Остаток этого суматошного утра он провел за неявным дифференцированием в компании дюжины стриженых бобриком и подающих надежды инженеров, затем пожертвовал серебряный доллар за тарелку разбодяженного чили, «Красную Шапочку», «Браун Бетти» и чашку чая. Палочка корицы была его собственной, а цвет денег ни у кого не вызвал вопросов. И то ладно. Середина дня проскользила в жестяном ангаре астрономической лаборатории, где Гноссос лепил из грязи пирожки, делая вид, что это модели лунных кратеров. Помогает унестись к разбегающимся галактикам и выкинуть из головы всю земную лажу. Вжжжж.
Когда стемнело, он заглянул в «Копье», проверил бильярдную, остановился у пансиона «Ларгетто», пропрыгал по шаткому висячему мосту, побродил по двору женской общаги и прочесал весь Кавернвилль в поисках Хеффалампа, который только начал приходить в себя после того, как его выперли. Однако мудрый засранец — завис в Афине: существование академическим осмосом, в стороне от асфальтовых морей.
Гноссос оставил у Гвидо записку, в которой предлагал Хеффу встретиться назавтра вечером у Дэвида Грюна. Поделиться сегодняшними трофеями, обсудить Моджо. Устроить вечеринку?
Когда он вернулся, в хате никого не было; он развел огонь, разделся, намешал себе коктейль с парегориком из «швеппса» и лекарственной настойки. Сыграл на «Хенер»-фа простенький восьмитактовый блюз и скрутил тонкий косяк из «Смеси 69», поглядывая одним глазом на припасенный на ночь стаканчик. Перерыв для занятий, хи-хо.
Но по притихшей в это вечернее время Авеню Академа, рыдая и стеная шла Памела: итальянский выкидной нож с перламутровой ручкой заботливо спрятан в складках муфты. Гноссос лежал на кровати, учебник раскрыт на правиле Лопиталя — палец остановился на формуле:
— Соотношение выполняется, — шептал он снова и снова, — независимо от конечности или бесконечности а. — Пусть а — это Гноссос. Где ж тут ловушка, малыш?
Последний предел, поддразнивал его разум, прежде всего должен существовать, и слово это явилось ему как раз в тот момент, когда через запечатанное окно Гноссос услышал судорожный скулеж, и его от паха до макушки пробило холодом. Внимательно вглядевшись в темноту, он увидел на снегу тощую тень Памелы. На ней был тонкий пеньюар, а свою муфту она словно подбрасывала в воздух. Костлявая рука воздета к небесам, как у Статуи Свободы. Факел, удивился Гноссос, еще не отрешившись от матанализа. Но уже в следующую секунду взвизгнул и, прикрыв макушку, скатился с кровати: Памела шевельнулась, и стал ясно виден предмет у нее в руке. Кирпич со стройки пансиона «Ларгетто». Раздался натужный хрип, затем тяжелый звон осколков: стекла посыпались в комнату , кирпич пролетел над кроватью и врезался в стену, обрушив с непрочного гвоздя картину Блэкнесса. Гноссос откатился от валившегося полотна, с ужасом представляя, как почти обезглавленное тело придавит сейчас его собственное. Стукнулся о ножку кровати, и тут его ушей достигли новые завывания. Сквозь разбитое окно с лязгом прорывался складной нож Памелы, а рука, управлявшая им, явно жаждала добраться до его плоти. Гноссос вскочил на ноги, перецепился через картину и повалился на спину. Памела исчезла из окна.
Дверь.
Он перемахнул через всю комнату, уперся пяткой в фанерный стол и толкнул его к двери — в ту же секунду ручка повернулась, Памела одним скачком перемахнула через препятствие, удерживая на горле развевающийся пеньюар и сжимая в другой руке готовый к броску нож. Безбровый лоб под нерасчесанными завитками кажется огромным, блестящая кожа уродливо стянута. На ногах — шелковые шлепанцы, мокрые и грязные от растаявшего снега. Опять натужный хрип, нож с воем летит через всю комнату, Гноссос валится на спину, на сей раз — специально, лезвие свистит у него над грудью и втыкается в висящий рюкзак, пришпиливая его к створчатой двери.