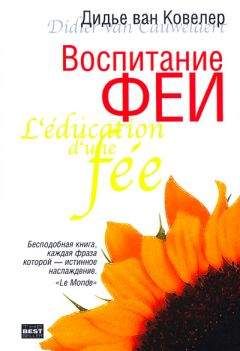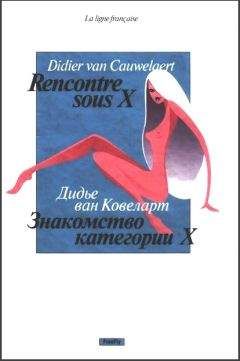— Выпиши мне чек.
— На сколько?
— На три тысячи. Я продаю тебе машину, пока они ее не конфисковали. Все совершенно законно: я исправлю данные в техпаспорте, проставлю дату, а ты подпишешь акт купли-продажи, вот так. Я абсолютно неплатежеспособен; если они когда-нибудь узнают, что ты мой сын, ты унаследуешь мои долги. Но все равно, говорю тебе, они ничего не докажут. У тебя есть проездной на метро?
Я порылся в карманах, протянул ему книжку. Он поблагодарил меня за все — «Пока, малыш!» — и исчез на лестнице станции Понт-Нёф. Неделю спустя в дверь его особняка напротив казино Экс-ле-Бэн позвонили привратник и комиссар, а он тем временем выбросился в окно. Ни одного прощального слова, извинения, упрека. Лишь на клочке бумаге, приклеенной к стене в кухне, предупреждение новому жильцу: «Сменить газовую трубу».
Сезар молча на меня смотрит. Понимающе улыбается. Когда я снова поворачиваю ключ зажигания, по пальцам пробегает дрожь. Она нашла в моей истории не драму, не смерть, не рассказ об эгоизме. Наоборот — сочувствие, целомудренную нежность, взаимное уважение, преданность; верность памяти. «Пока, малыш!» Два слова, которые не перестают звучать во мне.
— Чем он занимался? — спрашивает она чуть слышно.
— Я помню тот день, когда задал этот вопрос моей матери; мне было, наверное, лет пять или шесть. Она безразлично ответила: «играет». И ее ответ показался мне чудесным.
— Вы тоже играете?
— Я заставлял играть других. Изобретал правила.
Она ерзает на сиденье, придвигается ко мне. Хочет отодвинуться от дверцы — пазы уже не герметичные, ей на шею стекают капли дождя. Чтобы хоть что-нибудь сделать, я вытираю запотевшее ветровое стекло. Она смотрит на мое обручальное кольцо.
— У меня есть жена, которую я люблю, она сейчас от меня уходит, и ее сын от первого брака, которого я обожаю и не могу сказать ему правду.
Как легко говорить, когда тебя слушают. Любые недоразумения сразу рассеиваются, и все так просто, если есть доверие. Она отвечает мне ровным голосом:
— Я родилась в Ираке, приехала во Францию, чтобы защитить диссертацию по Андре Жиду, я хотела продолжать учебу и устроилась работать кассиром, чтобы помочь моему другу, который сейчас в тюрьме. Только что я потеряла работу.
Молчание растворяется в шуме падающих капель. Ни тени беспокойства. Никто из нас не хочет развеять очарование и нежность, возникшие между нами — да, нас объединяют эти неудачи, обрисованные четко и ясно.
В стекло с моей стороны стучат. Поворачиваю скрипящую ручку, которую забыл смазать.
— Помощь нужна? — спрашивает какой-то тип.
Сезар выскакивает из машины, бросается к двум парням на мотоцикле, склонившимся к моей дверце. С ошеломляющей яростью она кричит, что я полицейский, что она подаст на них в суд, если они не перестанут ее преследовать, что Фабьен на каждом углу говорит, что скоро женится на другой, пока она кормит его кота, поэтому, черт вас побери, оставьте меня в покое!
Она садится в «Триумф» и захлопывает дверцу. Дождь льется нам на колени. В зеркало заднего обзора я вижу, как парни садятся на мотоцикл и уезжают.
— Простите, — говорит она, прерывисто дыша, вытирая лоб рукавом.
Она одета небрежно: черная с сиреневыми полосками мини-юбка, рубаха в желтую клетку, зеленый лаковый жакет, пластиковый пояс и браслеты восточной принцессы. Какой контраст между спокойствием ожидания, которое она излучала минуту назад, и ледяной яростью, исчезнувшей столь же внезапно, как появилась. В ней бушует война. Напряжение, холодность, умение затаиться — по-настоящему опасные, проявляющиеся у тех, кто сражается ради того, чтобы стать самостоятельным, выжить и остаться невредимым.
— Мусс и Рашид, — представляет она мне парней с некоторым запозданием.
— У меня не было времени поинтересоваться, хотите ли вы, чтобы я вмешался.
Она кладет свою руку на мою и говорит, что я вел себя абсолютно правильно: у них с собой ножи, иногда они бывают очень милыми — все зависит от того, что они курили.
— Из-за них моего друга держат под следствием, поэтому они считают себя обязанными. Следят за мной, ходят по пятам — очевидно, им больше нечего делать. Они за меня «в ответе», как они говорят Фабьену. Но по какому праву? По какому праву они смеют судить меня и карать во имя ислама? Они даже не знают, что это такое! Они ни разу не были на родине предков и еще смеют меня учить! Они — французы, их родина — квартал Жан-Мулен, а их вера — футбол и косяки. Для них дело чести держать взаперти своих сестер, подружек и подружек друзей — во имя Пророка, как они заявили мне в лицо! И это мне, принявшей ислам по принуждению, у меня даже в паспорте отмечено: «суннитка»! Я-то действительно живу так, как они «проповедуют». Мой Бог — Бог любви. Он не унижает женщин, ценит жизнь, не запрещает пить вино и уважает других богов! Видеть их больше не могу! Не могу больше в этом жить! Не за тем я приехала во Францию!
Ее голос дрожит, срывается, но на глазах — ни слезинки. Она удивленно смотрит на меня и показывает на капот, вибрирующий с глухим звуком.
— Завелась?
Я спрашиваю, куда она хочет поехать. Она откидывается на спинку сиденья, запахивает плащ и дает мне карт-бланш: туда, куда хочу я, где мне приятно. Я делаю вид, будто размышляю, и минут через пять говорю, что придумал, но — предупреждаю — это место похоже на западню.
— Иногда вы, как и я, употребляете устаревшие обороты, — улыбается она.
«Триумф» делает рывок и по объездам и закоулкам покидает предместье Манта, начиная подъем, подпрыгивая на амортизаторах.
— Это еще называется «колымага»? — интересуется она.
— Да, но ей это неприятно.
— Вы всегда так быстро ездите?
— Только когда другие спят за рулем. Я вынужден идти на обгон — машина слишком низкая, ее просто затрут.
Скрестив руки на груди она с болезненной гримасой отвечает, что в ее ситуации это не страшно. Я не совсем понимаю, что она хочет сказать, но дождь перестал, из-за туч проглядывает солнце, и я, остановившись на светофоре, откидываю верх — на случай, если ее вдруг укачает.
Через пять километров мы въезжаем в лес. Я припарковываюсь у перекрестка Четырех Дубов, которых после прошлой зимы осталось только три. Шум двигателя мешает говорить, и мы с минуту молчим, отодвинувшись друг от друга. Я вытаскиваю бутылку шампанского, два фужера и спешу открыть дверцу. Она вылезает, поморщившись, доверительно сообщая, что я напомнил ей о сталкивающихся автомобилях на соревнованиях в Ванкувере.
— Никогда ничего такого не слышал.
— Это не комплимент.
— В Ванкувере красиво?
— Первый раз я увидела Ванкувер осенью, деревья все были разноцветные. Там все время идет дождь, но люди занимаются оздоровительным — в прямом смысле слова — бегом по снабженным указателями дорожкам, в капюшонах и с плейерами, они обожают свой город, потому что за двадцать минут там можно оказаться на тысячу метров выше или ниже, не важно на лыжах или бегом; они едят здоровую пищу, мало пьют, держат первое место в Канаде по количеству самоубийств и обязаны платить штраф в пятьсот долларов, если не уберут на улице за своей собакой.
После нескольких шагов по извилистой дорожке я спрашиваю, не мечтала ли она работать в туристическом агентстве. Она не улыбается. Отвечает, что была очень счастлива в Ванкувере, а потом очень несчастна, совсем как здесь — может быть, это судьба. Она могла попасть во Францию, только иммигрировав сначала в Канаду «для воссоединения семьи». Если бы она там осталась, то могла бы представить в ванкуверский университет диплом и слушать лекции на английском. Но она хотела во Францию. Мечты плохи тем, что иногда они становятся явью.
Мы снова замолкаем, веточки хрустят у нас под ногами.
— Какие у вас планы?
— Никаких, я жду. Жду письма из ректората, чтобы узнать, позволяет ли мне эмбарго против Ирака поступить в Сорбонну, жду, когда Фабьен выйдет из тюрьмы, займется своим котом и прямо скажет, что бросает меня, жду, когда отменят эмбарго на почту в Ирак, чтобы спокойно переписываться с родными, а не искать постоянно удобный случай, жду, когда мне продлят вид на жительство, — для этого нужна студенческая карта, для которой у меня постоянно требуют вид на жительство; жду невозможного, а когда перестаю верить, на что-то надеяться, жду старости, чтобы больше ничего не ждать. А Вы? — произносит она с улыбкой гостеприимной хозяйки дома, передающей гостю блюдо.
Слова застревают у меня в горле. Я не должен выглядеть несчастным в глазах этой девочки. Я не могу понять свои чувства. Она не возбуждает меня — она меня очаровывает. Наверное, она думает, что я соблазняю ее, и, сама того не желая, тоже меня соблазняет; меня тянет к ней все, и ничто не удерживает: мне приятно, что она рядом, и я не хочу ее. Я, всегда воспринимавший женщин, которые вызывают у меня симпатию, как потенциальных любовниц, ощущаю себя полностью выбитым из колеи — ни страсти, ни желания близости с маленькой девушкой из Ирака, говорящей на моем языке лучше меня, развенчавшей в моих глазах мою страну, продемонстрировав, насколько абсурдна здесь система шестеренок, вспоминающей о жизненных неудачах с такой ясностью, что, слушая ее, я вижу собственное крушение.