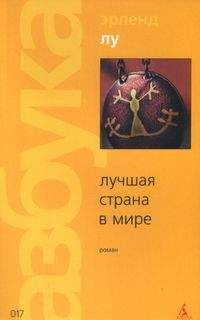Лежание на диване в конторе дорожно-транспортного управления означает перемену; для меня это перемена. Очень заметная перемена, можно сказать. Нормально для меня было бы сидеть сейчас дома и писать брошюру, писать про Финляндию; что-то я совсем забыл про Финляндию, а именно Финляндия должна бы сейчас занимать мои мысли. Прошло уже несколько часов с тех пор, как я в последний раз вспоминал про Финляндию, а мне следовало бы сидеть дома и тюкать по клавиатуре, а я вместо этого лежу на диване в конторе дорожно-транспортного управления и, кажется, уже опять засыпаю, я то сплю, то просыпаюсь, точно в бреду, и вместо того, чтобы думать о Финляндии, думаю об этой женщине, о той незнакомой женщине, которая меня уложила на диван и прикрыла шерстяным одеялом, потому что кто же еще, как не она, меня уложил, думаю я, вряд ли это сделал ее коллега, вредный курилка, который вчера хотел меня обслужить, откуда иначе одеяло и все такое, за этим стоит не кто иной, как она, а я даже не знаю ее имени; тут я немножко пофантазировал о ней, лежа на диване, это же неизбежно, не в смысле сексуальных фантазий, сексуальные тут совершенно ни при чем, секс ведь текуч, а я фантазирую о том, кто она такая; у нее темные волосы, и я называю ее Мерседес, потому что если уж суждено завязаться отношениям, то мне хотелось бы, чтобы ее звали Мерседес и чтобы ее предки происходили из дальних стран, пожалуй даже из Южной Америки, а ее назвали Мерседес, потому что ее отец любит машины, он и ее приучил любить машины, поэтому она и стала работать в дорожно-транспортном управлении, на коммунальной площадке для брошенных автомобилей, где можно видеть много разных машин, и набирать на клавиатуре автомобильные номера, и выдавать жетоны, и ведь это — отношения, а отношения текучи, но уж коли нельзя обойтись без текучки, то лучше, чтобы они завязывались с такой женщиной, которую зовут Мерседес и которая как можно сильнее отличалась бы от меня: у нее, например, должна быть большая семья, которая о ней заботится, куча отцов, и матерей, и племянников, и дядюшек, и тетушек, и я стану членом этой семьи, так что они не дочь потеряют, а приобретут еще одного сына, а потом будут потрясающие совместные трапезы и сплошной магический реализм с утра и до ночи.
Когда я снова проснулся, она сидела на стуле возле дивана. Ну вот ты и проснулся, говорит она, как раз вовремя; я кончила работу и могу уходить, так что тебе тоже пора идти, и вот тебе жетон. Она кладет жетон на стол, по сама не встает, давая мне время проснуться и сообразить, что к чему. Похоже, я проспал целый день, говорю я. Наверное, ты очень устал, говорит она. Это потому что все течет, говорю я. А сегодня утром чаша — та самая чаша, о которой мы всегда вспоминаем, — переполнилась, а я пытаюсь остановить поток, а это нельзя делать безнаказанно, поэтому я устал, говорю я. Понимаю, говорит она, но я не думаю, что она меня поняла, просто так принято говорить, это расхожая фраза, которой мы бросаемся походя каждый день, — мы говорим, что понимаем, тогда как в действительности ничего не поняли, а зачастую нам все настолько неинтересно, что мы и не хотим ничего понимать, а говорим, что понимаем, а на деле это ложь, не я один прибегаю ко лжи, все так поступают, например когда говорят, что понимают, хотя на самом деле ничего не понимаем, вот и она только что это сказала. Что ты понимаешь? — спрашиваю я. Я понимаю, что ты устаешь оттого, что текучка захлестывает, говорит она, я тоже устаю оттого, что захлестывает. А разве она захлестывает? — спрашиваю я. В этом-то весь вопрос, потому что если она не захлестывает, то очень легко сказать, что я, дескать, понимаю, как другие устают от текучки, но если она захлестывает, то захлестывает, и тогда человек сам от нее устает; так как же — есть она или нет? Конечно же есть, говорит она. Немножко течет или захлестывает? — спрашиваю я. Довольно-таки сильно захлестывает, говорит она. Чертовски сильно хлещет? — спрашиваю я. Сейчас как раз чертовски сильно, говорит она. Так и хлещет сейчас, чертовски хлещет, но я надеюсь, что когда-нибудь этому наступит конец. Никогда этому не будет конца, говорю я, потому что текучесть — основное состояние всех вещей, их первооснова, потому что для природы естественным является текучий баланс, но только не для нас, не для человека, говорю я; мы приучили себя говорить, что нас радуют перемены, для того чтобы не захлебнуться, мы сами себя пытаемся обмануть, говоря, что перемены нас радуют, тогда как на самом деле они нас совсем не радуют; изменения изменениям рознь, говорит на это она, кто бы она пи была, бывают хорошие изменения и бывают плохие, точно так же как разлив бывает хороший и бывает плохой, задача в том, чтобы попасть в хорошую струю, говорит она; надо только попасть в хорошую струю, повторяет она, зачем же бояться хорошего, правда? Я не понимаю, о чем она говорит, и меня опять одолевает усталость. Хороший разлив — — плохой разлив, какая-то там струя, о чем это? — думаю я, сидя на диване в конторе дорожно-транспортного ведомства. Поток есть поток, и он несет изменения, а в изменениях нет ничего хорошего, это всегда плохо, рассуждаю я с глупой категоричностыо, потому что она задела меня за живое. И почему это она, скажите на милость, вдруг решила, что потоп когда-нибудь прекратится?
Вот Бима захватил поток, говорит она. Захватил Бима? — спрашиваю я. Да, захватил Бима, говорит она. Я вовремя удержался, чтобы не сказать «понимаю», на самом деле я ведь не понял, я бы солгал, если бы сказал «понимаю». А кто такой Бим? — спрашиваю я. — Он лошадь? Если он лошадь, я готов усомниться в правильности этого высказывания. С лошадьми этого не бывает, уносит людей; вот если Бим не лошадь, тогда, конечно, другое дело, если только он не собака или другое какое-то животное. Бим не лошадь, говорит она. Если бы он был лошадью! Бим — это мой брат, так что можешь мне поверить, что его захватило и понесло в потоке. Так, значит, Бима понесло? — снова спрашиваю я. Бима уже давно уносит. Понимаю, говорю я. Это — ложь, но я чувствую, что как раз тут маленькая ложь вполне уместна и даже необходима, таковы условности общения, они требуют, чтобы я произнес именно это для поддержания разговора и поддержания возникших отношений; я должен был погладить по шерстке, вот я и сказал, что понимаю, хотя на самом деле из того, что она говорила, ничего невозможно было понять; я знаю только то, что Бим не лошадь, а ее брат и что его захватило и унесло потоком.
Я повез ее домой на машине. Ей давно уже пора было быть дома, но, пока я спал на диване и пока очухивался, она из-за меня пропустила свой автобус, так что самое меньшее, что я мог сделать, — это хотя бы отвезти ее домой. Ей надо скорее домой к Биму. Бим ждет. Вообще-то, мне некогда, я все время помню, что дома меня ждет Финляндия; Финляндия с нетерпением ждет, чтобы я наконец вернулся и снова занялся ею, принял бы ее в свои любящие объятия, думаю я, ведь время так и бежит, дни проносятся стремительным потоком, а информация о Финляндии все еще не появилась на свет; надо подхлестнуть себя, думаю я, ведь я терпеть не могу авралы, я люблю работать в хорошем ровном темпе, выдавая по нескольку страниц в день, равномерно и добросовестно, то есть работать методично, а авралы — это работа на и: и юс, при авральной работе ты тонешь в пучине, провались она ко всем чертям, авральная работа. Между тем мы уже приехали в один из городов-спутников рядом с Осло, и я остался сидеть в машине, дожидаясь, пока она сбегает наверх в квартиру проверить, дома ли Бим. На всякий случай она попросила меня подождать, предчувствуя, что Бим не стал ее дожидаться и отправился шататься по улицам и теперь он может быть где угодно. Я понял, что они живут вдвоем. Бим и она. Надо будет спросить у нее, как ее зовут; надо не забыть спросить об этом. Они остались без родителей, так она сказала, но «остались без родителей» можно понимать по-всякому: может быть, родители куда-то уехали, например на Канарские острова, или они психически больны, или спились, по в данном случае это означает, что они умерли, то есть оставили детей самым бесповоротным образом, думаю я, вероятно, и самым чистым, потому что если уж ты мертв, так, значит, мертв, тебя нигде нельзя встретить, с тобой никак нельзя связаться, ты недоступен в самом окончательном смысле, то есть тут вообще не о чем говорить, смерть окончательна в самом бесповоротном смысле, она — хозяин-барин, и она так соблазнительно легко протекает мимо нас, смерть — сама текучесть, и она пугает меня больше, чем что бы то ни было, больше, чем даже вода, потому что вода — это одновременно и жизнь и смерть, и я боюсь и того и другого, ведь они одинаково текучи, так что ее родители умерли, а смерть — хозяин-барин, и в каком-то смысле ты тоже станешь хозяин-барин, когда умрешь.
Бима нет дома. Она спускается ко мне и говорит, что Бима нет дома, и спрашивает, не мог бы я поехать с ней поискать его. Поискать Бима? Ну что ж, почему бы не поискать! Вот только моя брошюра! — думаю я. Я как раз взялся за один текст, говорю я, и немного зашиваюсь с работой. Какой текст? — спрашивает она, и я говорю, что работаю над текстом о Финляндии; я сказал именно «текст», потому что это оставляет вопрос открытым; «текст» звучит хорошо: