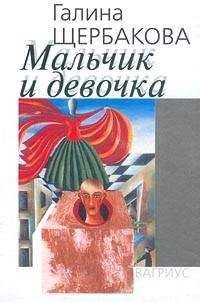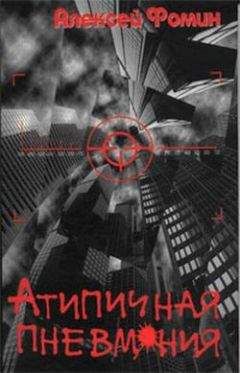Ознакомительная версия.
— Ну кто ты после всего этого? — не угоманивается мама.
— Адмирал Нельсон, — отвечает он.
— Боже! — восклицает мама. — Ты совсем спятил! Мы отправим тебя в психушку. Пусть тебя там послушают. Очень интересно.
Изнутри — из почек? или печени? — рождается острое желание других слов. Вернее, вполне существующих, но им требуемых. Его ставили в школе в пример — всегда правильная русская речь, без современных фенечек. Сейчас ему хочется именно их. Но он не помнит ни одной, зато «материальные слова» выстроились как по ранжиру, и аж дрожат от нетерпения. Первый среди всех этот с завитушкой на головке, трехбуквенный забойщик, рядом его дама — толстопятая арка для проезда туда и обратно, с сырыми стенками, потом это слово-действо, меняющееся каждую секунду. Ну, очень выеживающе-побудительное слово.
— Еб твою мать, мама! — говорит он. — Совсем на хуй спустила шлюзы… Определись в мысли. К чеченам меня или к психам… Замочи в сортире — тоже будет по кайфу. Президентом станешь… Сейчас это самое то. Обблюешь всех по самую жопу.
Он не отследил, как мать стала сползать со стула. Пальцы инстинктивно ухватились за клеенку стола, и та ползла и ползла с чашкой и хлебницей и накрыла рухнувшую к ножкам стула мать.
Он стоял и смотрел. Он еще был во власти другой терминологии, и ряд слов еще стоял перед ним, корчась в смехе. Собака первая подошла к матери.
Он нес ее на кровать, и ужас, что она умерла, был таким стальным, что он победил в нем и ум, и сердце. Он не соображал и не чувствовал. Он слушал стук зубов, мелкую их дробь и холод в горле, как будто в него пытчики забили сосульку. Мать лежала плоско и недвижно. Он забыл, что надо делать. Он был туп и почти труп. И опять же собака… Она тявкнула как-то беспомощно и слабо, и этого хватило. Он кинулся к матери и стал давить ей грудь, как видел по телевизору. Потом наклонился и стал дышать ей в рот, и на него пахнуло младенчеством, запахом материных соков, и он заплакал, потому что вспомнил ее любовь к нему, из которой теперь вытекала ее дурь. То было странное видение, как если бы из теплого, закутанного в полотенце мирного заварного чайника истекла грязная Волга со всеми пароходами, щепками, утопленниками и бурлаками. Надо было вызывать «скорую».
Команда врачей была другой. И главный, послушав мать, сказал, что ее надо увозить, что у нее не тот сердечный ритм, плохое давление и прочая, прочая…
— Подождите пять минут, — сказала она. — У меня плохая реакция на белые халаты, но мне уже гораздо лучше. Клянусь вам! Я психанула не по делу. — Она смотрела в этот момент на сына, стараясь понять, что в нем не то, и одновременно как бы попросить прощение за все сразу. Но он смотрел в сторону и слышал ли он ее вообще? Нет, его нельзя оставлять, думала мать, а если придется, надо вызывать Дину. Ей сразу стало покойно, и случилось то, что она и сказала: у нее снизилось давление и успокоился ритм. Сердитый врач чего-то там навыписывал, говоря, что слово «психанула» в ее лексике не должно быть, что она сердечно-сосудистая больная, и ей надо научиться относиться к жизни равнодушно. «Все равно же ничего нельзя изменить!» Ей хотелось ему ответить, что она за последний час научилась прогонять черные стены и выкинула к чертовой матери мысленные весы как предмет бесполезный и лукавый, но ей важно было, чтоб они ушли скорее, потому что сын, мальчик… С ним что-то случилось.
«Скорая» ушла. Собака лениво полаяла им вслед. Мальчик пришел и взял рецепты.
— Оставь, — сказала она ему. — Я еще то не выпила. Ты не волнуйся, наверное, сегодня магнитная буря. Я и не помню, с чего это я гикнулась?
Мальчик молчал. Он был пуст. Пока он ждал «скорую», он подумал, что не готов платить такую цену за любовь. У него тут же закружилась голова, пришлось повиснуть на калитке, чтоб не рухнуть. «Но я не могу без нее», — думал он о Дине. «Но я не могу без нее», — подумал он о матери. Калитка скрипела под тяжестью его жизни. Напротив, на калитке, сидела девочка, что выручала его с мобильником.
«Соплюшка, — думал он, — она еще не выросла. Как ей хорошо!»
Потом он шел к даче вместе со «скорой», и медсестра тараторила, что ее парня забирают в Чечню. «Боюсь, не подзалетела ли я с ним напоследок?»
— А гондоны зачем? — спросил врач.
— Я с ними не ловлю, — ответила сестра.
— Значит, так тебе и надо.
— Проверке на мышах можно доверять?
— Вполне, — ответил врач.
Мысль о Дине была острой и мучительной, а мама лежала плоско и отрешенно.
Потом все из него ушло, и он стал пуст, как ящик из письменного стола, из которого все выкинули.
Когда у дачи напротив начались крики, и через какое-то время прибежал мальчик вызывать неотложку, они посмотрели друг другу в глаза. В его глазах была мука. Значит, мука — это то, что может быть пополам с любовью? Потому что печаль, горе и страдание она видела и раньше, они не такие. В них не хватает присутствия чувства противоположного. Мука — это нерешаемая задача, это когда плюс и минус вместе, а это неправильно — два действия сразу.
Мать стала долдонить, что она не имеет права распоряжаться долларовым мобильником, что до такой степени она должна соображать, что почем.
— Представь, что ты больная, а мобильник у них, — сказала девочка. — До такой степени ты должна владеть воображением?
Мать стала орать, как угорелая. И что у нее хватило бы ума не приезжать на дачу больной, и что у ее сына-недоумка могла бы быть совесть, чтоб добежать до почты. «Всего десять минут!» И вообще нельзя использовать других, это неприлично. «В Америке за такое сразу бы взяли деньги. Наличными!»
— И ты бы взяла? — спросила девочка.
— А почему я должна оплачивать их проблемы? Я кто? Жена Березовского? Или Чубайса?
— Они бы тебя не взяли в жены. У них красавицы. — Уже сказав это, девочка поняла, что совершила подлую вещь, что про такое нельзя говорить, она сама закомплексована на внешности, хотя считает, что ей еще повезло, что похожа на отца.
Но у матери была своя мысль.
— Мне бы их деньги, — сказала она, — и я была бы красавица. Ноги у меня длинные и тонкие, остальное все приделывается. Ты еще маленькая дурочка, если веришь только зеркалу. Вот не будешь раздавать мобильники налево-направо, у родителей денежек будет больше и будешь, какой захочешь. Тебе многого не надо. Все и так при тебе.
Девочка была потрясена, что после ее хамства мать, оказалось, не обиделась, а даже стала нежной — «все при тебе!» Как же! Как же! Но все-таки девичье сердце — вещь хрупкая, его сломить — раз плюнуть. Девочке было приятно и хотелось ответить матери тоже чем-то хорошим.
— У тебя не только ноги, — сказала она. — У тебя и волосы. Ты зря их в пучок крутишь. Ты пусти их по плечам.
— И буду лахудрой. У тебя нет вкуса. Это твоя трагедия. Как и у отца.
«Начинается, — вздохнула девочка. — У нее внутри один переключатель. На злость». И она представила материных гадюк, которые, как из горла кувшина, вытягивали изящные головки, все в разные стороны. Эдакий букет змей. И она побежала к листу бумаги. И это получилось красиво. Хорошенькие, с длинными острыми язычками, все цветные, только глазки у всех гадючек белые-белые. От ненависти. «Тсиванен». Как пригодилась тут буква "т"!
Когда бригада медиков уходила, девочка, повиснув на калитке, спросила молоденькую сестру.
— Она умрет?
— Не рассчитывай, — засмеялась сестра. — Она своего хорошенького сына еще пожует всласть.
Девочка замерла на калитке. Ей ведь хотелось, чтоб выносили гроб. И чтоб она в него заглянула. Она близко не видела ни одного покойника, но ведь знать это нужно? Нужно. Соседка была бы прекрасным учебным пособием, как заспиртованные водоросли, которые когда-то были живыми, а сейчас дети на них учатся. Это во-первых… Во-вторых же… Сестра назвала мальчика хорошеньким, но знаете ли! Нашла тоже… Девочке хотелось с этим спорить долго, не давая спуску, но ничего не получалось. Она как бы соглашалась с тем, с чем соглашаться не могла и не хотела. Но ведь она же сама это видела. Они были там так красивы. Так светились на том бетоне.
Мать облизывала губы, как бы целованные сыном. Она не помнила, что случилось, но дивный, неповторимый запах младенца, дороже которого у нее никогда никого не было, наполнил угасающие силы соком, и она вздохнула глубоко и освобожденно. И еще она вспомнила, что была там. Там не было света, а было мрачно и холодно, и ее там не ждали. И она побилась в стены этого там, и стены отталкивали ее. Не очень хотелось и оставаться, но как-то обидно задевало это отталкивание — мол, вон отсюда, вон! Что уж они так к ней?! Мальчик ее, сын, вытащил ее оттуда. Зачем ей «скорая», когда он рядом? И она сказала собаке:
— Позови его! — И собака поняла, пошла.
Мать ощупала лежащую рядом сумочку. Только ей известным движением она выдернула подкладку из-под зажима и залезла рукой внутрь. Письмо стерлось на изгибах, а чернила расплылись от ее слез. Сколько письму лет? Тринадцать будет этим летом. Они тогда были в Анапе с мальчиком, после пневмонии. Снимали комнатенку рядом со спасательной станцией. Сын хозяйки работал спасателем, ему было шестнадцать лет, и он остался на второй год в восьмом классе. Она пообещала хозяйке подтянуть его по математике. Ну кто ж знал? Кто? Можно было ли ей представить, что математика просто вывалится из рук, как вещь никчемная. Что днем они будут уплывать на лодке и раскачивать ее под куполом неба. Он был такой горячий Гога, Гоги, Гоша, в нем было столько силы и страсти, что каждый раз, — а он был ненасытен, — она почти умирала в его руках, а когда оживала, то просто балдела от счастья, что так бывает. Их застукали через неделю и сообщили его матери. Она выбросила их вещи и выставила за забор маленького мальчика. И он пошел искать маму, которая голая лежала на руках юноши, и он умолял ее забрать его в Москву. И она думала, как это сделать, и у нее возник план. Потому что она не представляла, как ей теперь жить без его рук и ног, и живота, и губ, без его ягодиц, так ловко помещающихся в ее ладонях.
Ознакомительная версия.