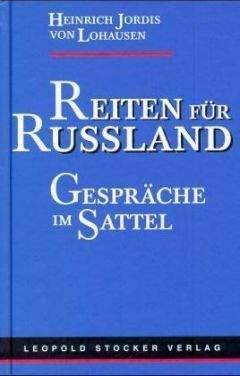— Я родился в этой стране, — говорил он, — так же, как и мои родители, и их родители. Тот, кто родился в Африке, очень далек, я его не проследил. А вы, старина, здесь чужак, не так ли? У вас сильный акцент. С первого же слова в вас узнают иностранца. Однако пройдет десяток лет, и вы, ну, как представитель «кавказской расы» избавитесь от иностранного акцента и станете одним из них. Что касается меня, то я никогда не смогу быть одним из них. При взгляде на меня первой мыслью у каждого из них будет «вот черный», а уж потом — кто я таков, как я одет, в каком я настроении и так далее.
Причем в моем случае это отношение усугубляется, потому что я очень черный. Вообразите, процент пигмента в коже тоже играет роль.
Он и в самом деле был очень черным, этот мой приятель.
— А вообще-то разве у вас есть какие-нибудь основания жаловаться? — спросил я. — Вы — процветающий адвокат, у вас отличный дом в дистрикте, «Мерседес-450»… Белые девушки, как я заметил, вовсе не чураются вашего общества.
Он улыбнулся, улыбка его похожа на flash-light [43] на фоне черного лица.
— Мой оттенок, кажется, считается недурным. Вообразите, оттенки черного цвета имеют значение. Приятные оттенки имеют больше шансов на успех в обществе, но наилучшими шансами обладают черные совсем не черные, те, кого называют high yellow [44], которые выглядят ну просто как белые после вакаций во Флориде.
— И все-таки ваш пример опровергает многие обобщения, мой друг, — сказал я ему. — В самом деле, вам вроде бы и не на что жаловаться, а?
— Я и не жалуюсь, — сказал он. — Мы говорим не о притеснениях, даже не о предубеждениях, а об отчуждении, очень тонком, почти неназываемом; оно будет, вероятно, существовать еще двести лет, не меньше.
Мы пытаемся разобраться в нынешней расовой ситуации со всеми ее тонкостями и грубостями. Собственно говоря, мы не разбираемся, а просто живем среди этих тонкостей и грубостей. В таком месте, как Вашингтон, эта тема волей-неволей возникает чуть ли не ежедневно. Иной раз она оборачивается легкой, юмористической стороной, в другой раз предстает перед нами, чужаками, странной, вывернутой, исполненной смутной угрозы, абсурда ядовитых испарений.
Боб Кайзер, уроженец Вашингтона, как-то рассказывал нам, что еще в начале шестидесятых годов негров не пускали здесь в партер театров, они могли сидеть только на галерке. Сейчас это трудно вообразить в городе, где мэр и почти весь муниципалитет черные, и все-таки, столь недавно… слишком малый еще срок, чтобы забыть те безобразные унижения.
Из всех жителей Штатов только негры приехали сюда не по собственной воле, хотя — может, это прозвучит кощунственно — именно грязный бизнес работорговцев по иронии истории и привел к созданию общины черных американцев, с прогрессом которой во всех отношениях не может сравниться ни одна страна Африки.
Именно «общины черных американцев», а не «нации негров». Приехав из многонационального Советского Союза, мы не сразу разобрались в том, что нация, собственно говоря, здесь одна — американская — и что корпи черных уходят к разным этническим группам Африки и той же степени, в какой белых — к разным нациям Европы.
Я пишу сейчас, собственно говоря, не о «черной проблеме», а о том, как она предстала перед нами, эмигрантами из Советского Союза. Негр для нас с детства был клишированным символом империалистического угнетения, объектом нашей солидарности, умозрительного сочувствия, чего угодно, только не человеческих чувств.
Позже, в период диссидентских настроений, многие в СССР склонны были думать, что черной проблемы вообще не существует в Штатах, что все это вымыслы лживой советской пропаганды, что на самом деле в Америке уже давно царит расовая гармония.
Мы восхищались черными джазистами и спортсменами, и нам казалось, что это гарантирует нас от расистских чувств. Оказавшись жителями Америки, мы вдруг поняли, что мы большие расисты, чем коренные американцы. Это вовсе не означает, что у нас появились дурные чувства к неграм. Наоборот, наш расизм, может быть, сказывался в том, что мы культивировали только хорошие чувства к нашим черным соседям. Резкий тон, скажем, по отношению к негру казался немыслимым. Потребовалось время, чтобы осознать, что черные люди вовсе не нуждаются в нашей снисходительности.
Честнее других, может быть, оказались одесситы с Брайтон-бич в Нью-Йорке, которые говорили черным бруклинским хулиганам: «Мы ваших дедушек, мужики, в рабство не продавали, поэтому валите отсюда!»
Ханжеская любезность в отношении черных приводит к недомолвкам и иносказаниям: когда говорят о каком-нибудь районе города «не совсем благополучная „эриа“, а имеют в виду, что там живут черные, когда о неблаговидных поступках, совершенных черными, вообще предпочитают не распространяться, поджимают губы и переходят на другую тему. Такой „прогрессизм“, конечно, имеет расистскую подкладку. Негров, очевидно, лишь оскорбляет эта снисходительность и приторность.
Почему мы можем сказать, что среди русских или ирландцев много пьяниц, и почему мы не можем сказать, что среди черных подростков нынче немало таких, что склонны к блуду, к охоте за дешевым кайфом?
Черная комьюнити ежедневно оборачивается к нам множеством своих разнообразных лиц: здесь и блестящий молодой джентльмен Карл Льюс, и ублюдок сыщик, без разговоров застреливший в нью-йоркском дворе отца эмигрантского семейства, здесь и такой благородный деятель, как мэр Бредли, и исламский нацист Фаррахан, здесь и мой next door [45], вечно улыбающийся художник Роберт, и свирепая чиновница из вашингтонского отдела иммиграции и натурализации… Так или иначе это наши соседи, наши новые сограждане.
Негры под американским снегом
В Вашингтоне зима начинается где-то в середине января. Конечно, по сравнению с Россией вашингтонские снегопады выглядят несерьезно, но иногда, милостивые государи, так завалит, что впору вспомнить и остров Сахалин.
В такие дни город преображается. Движение сокращается до минимума. Там и сям видишь брошенные машины. Забавно выглядят под снегом основные представители населения нашего города, то есть негры. Иные черные мужички, как будто это для них привычное дело, берут лопаты и ходят по иностранным посольствам, откапывают. Другие демонстрируют некоторый эстетический вызов белому засилью. Вот передо мной раскачивается на тонких каблучках красотка фунтиков на двести. Она облачена в серый тренировочный костюм, поверх костюма на округлости натянуты красные шорты, над головой зонтик из желтых, зеленых и синих клиньев. А снег идет, а снег идет, и все вокруг чего-то ждет…
Повсюду житель озабочен взаимовыручкой. Помогают толкать машины, прикуривать от аккумуляторов. У моего друга не заводится. Мы возимся большой толпой. Скрип тормозов, рядом с нами останавливается вэн [46], то есть одно из тех многоцелевых во многих смыслах транспортных средств, что пилотирует особого рода народ, так называемые таф — жесткие ребята.
В данном случае из вэна выскакивает черный красавец под шесть футов. «В чем дело, народы? Аккумулятор сел? Прикуривателей нету? Я знаю, где достать. Поехали со мной!» Дело было в воскресенье, все магазины в округе закрыты, и я залез в его вэн, хотя во внешности молодца не было, мягко говоря, кричащей надежности, чем-то неуловимым скорее смахивал он на пирата.
Его звали Стив Паддингтон, что звучит приблизительно как Евгений Онегин. Он лихо гнал через метель и не особенно-то подтормаживал перед светофорами. Кричал мне в невероятном возбуждении:
— Я люблю помогать людям! Обожаю помогать людям! Невзирая на цвет кожи! Мне наплевать на цвет кожи! Главное, чтоб человек был хороший! Верно? Чему нас Мартин Лютер Кинг учил? Помогать людям! Я такой отличный парень! Бабы от меня без ума! Мне тридцать четыре года, а у меня уже семь женщин в разных местах, четверо детей в разных местах! Я мужик что надо! А ты чем занимаешься?
Как не ответить на редкий вопросительный знак среди урагана восклицательных.
— Книжки пишу, — сказал я.
В восторге Стив сильно хлопнул меня по колену:
— Вот это удача! Давно мне так не везло!
— В чем же удача, Стив?
— Не понимаешь? — изумился он. — Я напишу дневник своей жизни, ты сделаешь из него роман, деньги поделим! Теперь дошло? Мне очень деньги нужны! И знаешь для чего? Чтобы хорошо жить! Дошло? Чтобы наслаждаться жизнью.
Мы мчались сквозь пургу все дальше и дальше, в какой-то весьма сомнительный район города. Стив развивал, хохоча, идею замечательного предприятия. На вырученные за нашу потрясающую книгу деньги мы покупаем два автобуса и начинаем на них возить игроков из дистрикта Колумбия в игорные дома Атлантик-Сити. Сколотив на этих экскурсиях достаточное состояние, мы открываем свой собственный игорный дом прямо здесь, в дистрикте. Почему люди должны ездить играть в Атлантик-Сити? Почему они не могут играть прямо здесь, в столице страны? Успех обеспечен, потому что все люди хотят хорошо жить! Все хотят наслаждаться. Успех! Деньги! Лайф-де-люкс!