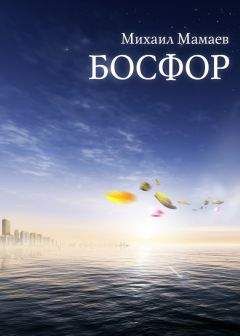Я не понял.
— Жан был моим первым мужчиной, — Ламья понизила голос почти до шепота.
Мы лежали в одной из спален. Маруся спала, положив руку мне на грудь.
За окном синело кислое январское утро, клубящееся густым туманом.
— Познакомились, когда мне едва исполнилось шестнадцать, — продолжала девушка. — Тогда я еще не поменяла пол. Да и почти ничего не смыслила в этой жизни. За исключением того, что нужно кого-то любить — иначе сердце останется маленьким, недоразвитым.
Я улыбнулся. Как нас только в детстве не обманывали! Если бы размер сердца зависел оттого, как много и честно любит человек, две трети мира имели в груди комочки величиной с грецкий орех.
— Мы общались как друзья, Никита, настоящие друзья. Хотя Жан старше меня на двадцать с лишним лет. Ходили на дискотеки, в бары, на выставки художников. Я рисовала тогда, а Жан кое-что смыслит в этом, он в свое время учился в Лондоне. Однажды Жан подарил цветы. «Почему? — спросила я. — Разве мужчины так поступают с мужчинами?» «Да, — ответил он. — Если они хотят выразить чувства».
— Вы и сейчас дружите? — спросил я, чтобы что-то сказать. Мне вдруг стало скучно. Вспомнил, что цветы и прочие подарки могут служить компенсацией за недостаток сильных чувств.
— Да, мы дружим. Но не более того. И редко бываю в Стамбуле.
— А Дениз?
— С Денизом не дружим. Так, делаем вид. Когда-то он мне очень нравился. Я к нему даже привязалась. А потом поняла, что не единственная. Меня просто использовали для удовольствия. Было очень тяжело.
— Это всегда тяжело, если ты живой человек, а не пепельница, или барабан.
— Каков же выход, Никита?
— Не знаю.
— И я не знаю.
7
Когда вернулся домой, на улице уже стемнело. Жале не было. Собрал вещи и в последний раз оглядел нашу комнату. Странно, я совсем не испытывал грусти. Как будто выходил за хлебом.
На душе было спокойно. В жизни открылось окно, из которого нужно было выпрыгнуть, чтобы снова отрасли крылья. Вернее, я сам его открыл.
Я стал ждать Наташиных побед, словно собственных, а это тупик. Если мужчина проигрывает несколько раз подряд, он должен остаться один и объявить себе Чрезвычайное Положение. Иначе потом будет не ясно, кому рожать ребенка и кормить материнским молоком.
На кровать положил записку.
Ухожу.
Свободна в любых поступках.
Спасибо.
Не ищи…
…
В таком духе.
Идиот! Можно подумать, после добровольного отказа, Наташа стала бы меня разыскивать!
— Не мучайся, — сказал Тунч. — Конечно, можешь ночевать и здесь, в баре. Но зачем? Есть же Ламья. Отнесись к ней как к другу. Как ко мне, например. Я пригласил бы тебя к себе домой, но у нас нет места.
Я знал, что остановиться у Тунча невозможно. Он жил с родителями и двумя младшими братьями где-то на окраине города в маленьком ветхом доме, собранном чуть ли не из картонок из-под сигарет. Часто он оставался ночевать наверху, в подсобке, где жил Ганнибал. Там лежало несколько матрацев, подушки и одеяла. Туалет был за стеной. Бармены иногда водили туда девчонок.
Появился Дениз и заказал виски.
— Неплохо повеселились? — сказал он, отхлебывая из стакана. — Ты молодец. Кстати, что не заходишь в агентство? Или бар приносит больше?
Я вежливо улыбался. Это было моей работой.
— Обязательно зайду.
— Привет Наталье! Надеюсь, она не болеет…
Дениз допил виски и направился к выходу.
— Чего это он так быстро смылся? — спросил Тунч.
— Не знаю.
— Это он к тебе приезжал, — усмехнулся Тунч и странно посмотрел на меня. Словно засомневался, не произошло ли между мной и Денизом чего-нибудь.
После разговора с Денизом стало тревожно. Это было связано с Наташей. Как будто ей угрожала опасность, и эта опасность исходила от Дениза.
В полшестого утра я был у Ламьи.
— Прости. Пустишь на пару дней?
Понимал, что так поступают только полные кретины, что надо было хотя бы позвонить. Но я начинал новую жизнь, и в этой жизни хотелось быть бестактным.
— Конечно! — обрадовалась Ламья. — При условии, что… Впрочем, никаких условий.
Ламья сварила кофе. Сели у окна и стали смотреть, как небо над соседним домом светлеет и в доме зажигаются окна.
— Почему они встают так рано? — спросил я. — Сегодня же праздник.
— Видимо, к ним тоже нагрянули гости, — пошутила Ламья. — Хочешь выпить?
Не хотел, но согласился. Весь вечер не выпил ни капли.
Ночь на Буюкодаре можно было записать в разряд снов или пьяного бреда.
И забыть.
Или не забыть…
Во всех случаях требовалось выпить, чтобы голова и тело быстрее соображали.
— Почему ты ушел из дома? — спросила Ламья.
— Перестало получаться совмещать любовь с борьбой за существование… Смешно звучит, правда?
— Нет. Ты говоришь искренне, над этим нельзя смеяться.
— Можно, Ламья. Жизнь как раз предпочитает высмеивать таких, как я — легко открывающих сердце и, значит, слабых.
— Выпей, — сказала Ламья. — Тоже выпью с тобой.
Она плеснула в стаканы густой темный ром.
— За то, что ты не прав, Никита. За то, что искренние люди — самые сильные на земле. Потому что не бояться быть честными там, где всего сложнее — в чувствах.
— Почему ты такая мудрая?
— Я не мудрая. Иначе я давно была бы счастлива. Почему ты пришел именно ко мне?
— А к кому? Ты мой единственный настоящий друг в этом городе.
— Друг — это скорее относится к мужчине. Мужчины ценят дружбу и умеют дружить. А я женщина, хочешь ты или нет. Дружба для меня — вещь сомнительная, а иногда — враждебная.
Я пожал плечами. Что проку говорить об этом, если не знаешь, останешься здесь через день, через час? Как много мы произносим ненужных слов!
Пододвинул стул и положил руку ей на колено. Пола халата соскользнула, обнажив гладкую кожу. Наклонился и поцеловал. Ламья погладила меня по голове. В движении было что-то материнское.
— Ты не устал? — спросила она.
— Не знаю, что это такое.
Ламья была спокойна и уверена. Взял ее на руки и отнес в спальню.
8
Прошел месяц. Без конца шли дожди, иногда с градом и снегом. Мне было хорошо, насколько может быть хорошо человеку, оставшемуся без любимой, в чужом городе чужой страны с малознакомой женщиной, что в прошлом была еще и мужчиной.
Непогода успокаивала. Хотелось, чтобы все время было пасмурно. Через застекленные холодным дождем окна жизнь казалась лишь намеком на то, чего никто не знает о ней, на разговор в соседней комнате, касающийся тебя, когда разобрать слов не можешь, да и не пытаешься.
Мы никуда не выходили. Еду и вино приносил из магазина посыльный. Не хотелось никого видеть. Ламья отключила телефон, забросила дела.
Я не ходил в бар. Боялся, что, если снова встану за стойку, что-нибудь напомнит о прошлом, которое было теперь гербарием.
Несколько раз кто-то звонил в дверь. Тогда мы замирали, как сурки, и прислушивались.
Большая часть времени проходила в постели. Бесконечно занимались любовью. Ламья была умной партнершей. Мы умудрялись часами сладко мучиться, или же, наоборот, подвергать тела друг друга короткой электрической смерти, после чего начинался блаженный процесс поиска своих молекулярных сущностей в многомерном пространстве комнат. Мы руководили этим, как боги, случайно научившиеся любить. Всесильные и в то же время ранимые, как это ни парадоксально.
— Что ты делаешь? — однажды спросил, удерживая Ламью.
— Тебе не нравится?
В ее глазах мерцал пацанский азарт.
— При чем здесь? Речь о тебе. Для этого не надо было превращаться в женщину.
— А что, если я об этом уже жалею? — Ламья улыбнулась. — Рядом с тобой, малыш.
— Я не подхожу тебе?
Ламья расхохоталась.
— Неужели ты еще не понял? В постели не должно быть ни мужчины, ни женщины. Любовь беспола! Это и есть Рай… Но люди ищут что-то другое, что дает лишь иллюзию счастья, да и то на одно мгновение. А потом платят, платят, платят и никак не могут расплатиться.
— Разве ты несчастна?
— Еще как счастлива! Но лишь настолько, насколько может быть счастлив клен, мечтающий быть и сосной, и осиной, и пальмой одновременно. Я хочу тебя, понимаешь! Мне мало быть с тобой женщиной. Хочу быть и мужчиной, и женщиной, и кошкой, и собакой, и камнем, что ты кидаешь в воду, и водой, в которую камень летит… Хочу, чтобы и ты был всем, а не одним лишь комком рефлексирующей мужественности. Побудь со мной женщиной, ну, пожалуйста, Никита, давай. Давай же! Почему ты боишься? Разве это так страшно…
Понимал, Ламья ввергает меня в омут, в чувственный эксперимент.
И не сопротивлялся.
Так было легче забыть Наташу, рядом с которой мог быть лишь мужчиной и притом только сильным.
И все же я думал о Наташе, особенно по ночам, под утро.