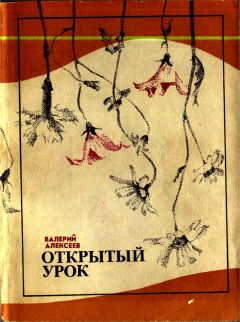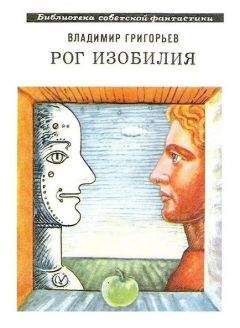Слухи намного опережают события, и, когда я вошел в нашу комнату, все уже обо всем знали. Видимо, мое появление прервало какой-то бурный разговор, потому что Ященко стоял за своим столом в позе общественного обвинителя и, выставив палец в сторону Дыкина, заканчивал победоносную тираду:
— А он у тебя и спрашивать не станет, понял? Ты для него пешка непроходная!
— А ты? — спросил Дыкин.
— Я тоже не исключение! — отпарировал Ященко. — Любого из нас он выставит на улицу и глазом не моргнет!
Смущенно улыбаясь, Дыкин развел руками, и я ока зался свидетелем немой, но чрезвычайно выразительной сцены: брюзгливый Молоцкий, мрачный Сумных, разгневанный Ященко приканчивали взглядами Дыкина, а он, изрядно потрепанный, корчился на своем стуле, как будто был пришпилен сразу тремя булавками. Анита стояла спиной к окну, собираясь произнести умоляющее: «Мальчики, мальчики!» Один только Ларин сидел в отдалении и безмятежно наблюдал за происходящим. Он первый заметил мое появление и, поспешно приподнявшись, сказал: — Сергей Сергеевич, в ваше отсутствие вам звонила Лариса Ивановна.
— Кто, Кто, — переспросил я, действительно не сразу сообразив, о ком идет речь.
— Супруга ваша, — уточнил Ларин, и в его фразе мне послышался отчетливый «слово-ерс».
Кивнув ему, я сел на свое место — и тут же вспыхнул весь до ушей: Анита пристально за мной следила, а Ященко и Молоцкий многозначительно переглядывались. Ну, разумеется, со злостью подумал я, теперь так и пойдет: любой мой жест, любое движение, даже автоматическое, сейчас же будет истолковываться по-иному. Но я-то не иной, черт меня подери, я не успел переродиться, пока шел сюда из «коврового отсека»! Напрасно вы так спешите, коллеги, с этим моим перерождением: знай вы меня получше, вы не забегали бы вперед со своим многозначительным «ага».
Я молча углубился в свои контрольные тексты, которые бог знает кому были теперь нужны. Еще никогда я не чувствовал себя таким одиноким. Но, видимо, таков удел всех «носителей пружинного начала», поэтому приходилось терпеть.
Примерно за полчаса до конца рабочего дня настроения улеглись, и в отделе начался обычный вечерний треп — с той только разницей, что при этом присутствовал посторонний. Посторонним был я, и все, что говорилось, было рассчитано прежде всего на мое присутствие.
Ященко сообщил всем и каждому, что ежечасно на Землю падает сто двадцать килограммов солнечного света, следовательно, на каждую живую душу приходится что-то около трехсот миллиграммов в год. Не густо, если учесть, что это вся наша порция энергии: другой ниоткуда не поступает.
— Триста миллиграммов? — переспросил Молоцкий. — Много меньше, мой юный друг, много меньше. Ты не учел животных: им тоже кое-что достается.
— Животных мы поедаем, — возразил ему Дыкин, — а вместе с ними и их порцию. Так что все достается людям.
— В таком случае, — изрек Молоцкии, — людоеды были большими умниками. Но было ли им лучше, чем нам, — вот вопрос.
— Лучше всех будет тому людоеду, — живо сказал Ященко, — который съест всех остальных…
— …людоедов, — закончил Дыкин, и все рассмеялись.
Обычно я не прислушивался к такой болтовне, потому что в последние сорок минут мне отчего-то хорошо работалось. Но сейчас голова моя еще гудела после разговора с Дубинским, и работать я был не в состоянии.
— Вот, скажем, — не унимался Молоцкии, — один из нас семерых вдруг решится на такую крайнюю меру и проглотит всех остальных. Много ли ему достанется солнечной энергии?
— Чего проще, — проговорил Ященко, — сейчас подсчитаем. Одна целая восемь десятых грамма. Вполне достаточно, чтобы подключить торшер.
— Э, нет, — сказал Молоцкии, — ты ошибаешься, дружок. Ты забыл о коэффициенте возраста. Я в два раза старше тебя, следовательно, мой запас энергии вдвое больше.
— В таком случае я знаю, что делать, — ответил ему Ященко, — Надо пойти в закуток и заглонут Рапова.
— Ты опоздал, дружище, — быстро сказал Молоцкии, и стало тихо.
Слава богу, даром предвидения меня судьба не обидела, и я задолго до такого финала знал, к чему ведут Ященко и Молоцкии. Поэтому, когда Дыкин крякнул и все на меня поглядели, я был уже готов к обороне.
В два раза дольше жить, — медленно сказал я, и Молоцкии не посмел отвести взгляда, — это не значит получить в два раза больше солнечной энергии. Есть люди, которые всю жизнь ходят по теневой стороне. Их, ей-богу, не стоит заглатывать. Сырость одна.
— Хорошо сказано! — крикнул Дыкин и оглушительно захохотал.
— Длинновато несколько… — промямлил Молоцкии. — Но в общем…
Увы, я не чувствовал себя победителем, хотя Анита смеялась, и Ларин похихикивал, и даже Сумных, который обычно избегал таких пикировок из боязни недопонять, криво улыбался: он-таки уловил, что Молоцкии получил свое и получил крепко. Но этот коротенький и, в общем, пустой разговор показал мне, что жить мне теперь будет очень непросто.
Я не рожден был вершить чужие судьбы: всю свою жизнь я слишком зависел от отношения ко мне окружающих людей. Я с ужасом представлял себе, как в понедельник войду в свой отдел: человек-акула, проглотивший старика Рапова, перепрыгнувший через головы «старших товарищей», обсуждавший в верхах участь коллег за их спиной. Именно в понедельник, когда все происшедшее будет обдумано и обговорено в домашнем кругу, новый мой облик окончательно сформируется. Молоцкии и Сумных, Анита и Дыкин, Ященко и Ларин — все они будут смотреть на меня другими глазами и сами станут другими для меня.
Смотрите-ка, что получается: я пишу заявление об уходе — Все молча пожимают плечами. Знаем мы эти трюки, российская история полна примеров такого демонстративного отречения. Я оживленно начинаю со всеми беседовать — смотрите-ка, он еще пытается играть рубаху-парня. Я отчужденно сижу за своим столом — ну вот, пожалуйста, уже начинает соблюдать начальственную дистанцию. А не угодно ли пройти в раповский закуток? Я начинаю объясняться — мне вежливо внимают: как же, как же, попытка наладить человеческие отношения. Я начинаю горячо объясняться — ах, совесть заговорила? А не угодно ли пройти в раповский закуток? Там можно предаваться мукам совести вплоть до полного изнеможения.
Конечно, есть еще мой добрый верный Дыкин… но это не тот уже Дыкин, который может хлопнуть меня по плечу и расхохотаться, запрокинув голову, в ответ на мою удачную шутку. Этот, новый Дыкин больше не расхохочется. Видели бы вы, как он сконфуженно озирался, расхохотавшись чуть громче, чем надо, пять минут назад.
Начальственные шутки вызывают усмешки — знаете, какие? Я знаю: в лучшие времена старик Рапов любил пошутить.
Конечно, есть еще Анита… но она предоставит мне полную возможность выпутываться самому.
А новый Ященко — вежливый, серьезный, снисходительно-почтительный? Увы, я сам научил его быть таким. А новый Молоцкий, который, конечно же, не станет теперь в глаза вышучивать мое «начальственное молодо-женство», но будет делать это за моей спиной…
Уйду ли я, останусь ли — это уже ничего не изменит. Уйду неудачливым выскочкой, останусь удачливым карьеристом. Отчего, черт возьми, я не могу перестать думать об этом? Отчего все они в тысячу раз меня сильнее, а ведь прав-то среди них я один? Правота упрощает жизнь, это общеизвестно. Всем другим упрощает, а мне усложнила. На мне это правило не сработало. Почему?
У меня был единственный шанс внести в ситуацию ясность: поговорить со стариком Раповым. Он единственный мог понять, что я хотел только лучшего. Он единственный мог серьезно принять мои заверения, что я не искал карьеры и выгоды себе не искал.
Я встал, протиснулся между столами, подошел к перегородке и постучал в стекло. Рапов был у себя: за дверью светилась настольная лампа. Наш шеф работал при лампе даже в середине дня. А может быть, зажигая свет, он подавал нам знак, что он у себя и не стоит особенно бурно резвиться.
— Владимир Петрович, — сказал я, приоткрыв дверь, — мне нужно с вами потолковать.
Рапов поднял от бумаг голову, поправил очки. Сквозь абажур на лицо его падал зеленый свет.
— А мне не нужно, — сказал он отчетливо. — Вы мелкий интриган, дорогой мой. Таким людям я руки не подаю. Впрочем, если вы настаиваете…
— Я не настаиваю, — ответил я, помертвев. Потом медленно закрыл дверь и, глядя прямо перед собой, прошел через всю комнату в коридор. Там я минут пятнадцать ходил взад-вперед, пытаясь успокоиться, и это мне удалось.
Тогда я пошел в РИО, взял лист чистой бумаги, написал заявление об уходе и вернулся к себе.
Коллеги мои уже поднялись с мест. Рабочий день кончился.
— Да, брат, дела, — сказал мне Дыкин, застегивая свой портфель. — Осложнилось все как-то, а понимания настоящего нет.
— Нет — и не будет, — буркнул Сумных, подчеркнуто не замечая моего появления. — Ты рядовой исполнитель, тебе понимание ни к чему.