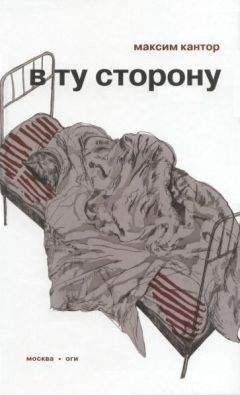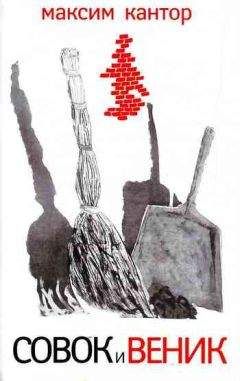Каждый вечер Бланк говорил себе, что больше не выдержит, что надо покончить с этой фальшивой историей. Начать новую жизнь — и там уже не будет обмана. Жалкие слова. Вот, посмотрите на Татарникова: старую бы жизнь дожить, куда там думать о новой.
Выехав из дома (все утро собирался сказать жене, что уходит от нее, так и не смог ничего сказать), Бланк решил, что начнет день с того, что навестит Татарникова.
В конце концов, невелик труд — заехать в больницу. Именно малыми делами мы и творим добро, думал Бланк, паркуя машину у бетонного здания, подле морга.
— Нельзя, — сказал охранник, — мертвый час.
Что охранять в больнице? Клизмы? Ночью сестру не дозовешься, чтобы утку подала, — а вот охранника у входа поставили.
— Он все равно не спит. Завтра операция, понимаете?
— Не положено.
Бланк достал триста рублей, протянул охраннику.
— Проходите, что с вами делать. Бахилы только купите.
Словом «бахилы» в больнице именовали не охотничьи сапоги, но маленькие полиэтиленовые мешочки. Бланк заплатил червонец человеку в форме за полиэтиленовые мешочки, мешочки надел поверх ботинок — как положено.
— Я сделал доброе дело, — сообщил Бланк Татарникову, — материально помог одному ведомственному охраннику. Придерживаюсь теории малых дел. Не могу изменить мир, но отдельному сторожу помогаю.
— Так только кажется, Саша, — тихо сказал ему Татарников, — никаких малых дел вообще нет в природе. Все дела большие.
— И все-таки битва при Ватерлоо — это одно, а совсем другое — драка в подъезде.
— Только драка в подъезде и важна. Ватерлоо подводит итоги. Война не знает крупных городов. Станица Белая Глина, станция Торговая, населенный пункт Узловая. Что тебе говорят эти названия? Ничего не говорят. А они решали исход войны.
Бланк отметил, что Татарников теперь говорит короткими фразами, словно бережет дыхание.
— Почитай Нострадамуса. Нет названий крупных городов. Судьба решается не в Париже. Не в Лондоне. Вода течет, где ей удобно. История идет где хочет.
— Да, — подхватил Бланк, — например, в охотничьем домике в Беловежской пуще, где страну делили.
— Афганистан, — сказал Татарников. — Кому нужен? Камень и песок. Нефти нет, золота нет. Двести лет не могут оставить в покое.
— Считаешь, история сегодня в Афганистане? — Бланк погладил Сергея Ильича по худой руке. Кожа умирающего собиралась в дряблую складку под его пальцами, податливая, безвольная материя. О чем говорить с больным накануне операции, Бланк не знал. — Считаешь, там все решается?
— В урологическом отделении решается. В операционной, — сказал Татарников. Потом добавил. — Глупости. Ничего здесь не решается.
— У меня судьба решается. — Бланк удивился себе, для чего он это сказал. Однако сказал же. — Сегодня должна решиться.
Татарников не глядел на Бланка, лежал с прикрытыми глазами. Бланк спросил:
— Что делать с Лилей? Скажи. Не могу без нее.
— Женись.
Как равнодушно сказал это Сергей Ильич! Бланк поразился его равнодушию. Сергей Ильич отлично знал жену Бланка, представлял, как все непросто. Тридцать лет вместе — шутка ли?
— А Юлия? Пропадет!
— Защити слабого, — сказал Татарников.
— Обе слабые! Все слабые! Что мне делать!
— Защищай всех.
— Невозможно, понимаешь, невозможно! Нужно выбрать — а как выбрать? Кого-то одного я должен бросить.
— Нельзя, — сказал Татарников.
— Сам знаю, что нельзя! — Бланк закрыл лицо руками; пошлый жест, но другого природа не придумала. — Как они без меня? Кто защитит? Жили бы в нормальной стране… А что здесь будет завтра? Одна — еврейка, завтра, того гляди, погромы начнутся. Другая — кореянка, того не лучше. Национализм растет — и как без него! Финансовый кризис — а кто виноват? Найдут виноватого!
Татарников открыл глаза.(он их держал закрытыми, прислушивался к боли) и кивнул.
— Таджики виноваты, что экономика сдохла! Узбеки виноваты, что самолеты не летают! Грузины виноваты, что нефть дешевеет! Господи, что за страна! Ты слышал? Нет, ты, конечно, не слышал — у тебя здесь радио нет… да и не рассказывают уже ничего по радио… и телевизор замолчал… дагестанцев, таджиков режут, какие-то дикие манифестации идут, подростки с языческими символами — свастика или еще что-то такое — маршируют. А с Грузией что творится?
— Все правильно. Так и должно быть.
— Что будет с Россией, Сережа, скажи, ты же умный. — Бланк хотел спросить, что будет с ним самим, уволят его или нет, отпустит ли его жена, хватит ли у него здоровья выдержать этот год. Он хотел спросить, останется ли он жив после ударов судьбы, но вопрос прозвучал бы бестактно. Спросить о судьбе России — как-то пристойнее, хотя, если вдуматься, что может сказать умирающий о завтрашнем дне?
Однако Татарников ответил вполне определенно:
— Развалится Россия. Дойдет до размеров Иванова царства — с чего и началась.
— Не верю, невозможно… У них же планы… Они новую империю хотят… Вертикаль власти строят. Губернаторов назначают… Губкин газеты покупает… Думаешь, развалится? Почему? — Дико прозвучали эти слова у постели ракового больного. Бланк не спросил, почему человек смертен, не спросил, почему нет лекарства от рака, не спросил, почему вера не спасает от боли. Он спросил, почему непременно развалится Россия.
— От жадности и глупости.
— А люди, люди что делать будут?
Бланку было так плохо, что он забыл, что сидит в больнице, где людям значительно хуже, чем ему.
— Люди? — повторил за ним Татарников. — Будут жить как раньше, думаю. Ты на часы смотришь. Пора?
Бланк действительно поглядел на часы: на Пушкинской площади проходила акция либеральной интеллигенции под названием «я — грузин!». Всякий честный московский интеллигент должен был прийти, постоять, выразить протест против действий власти. Лиля ждала его у памятника Пушкину.
Акция «я — грузин!» была уже второй по счету. Первая акция прошла два года назад, когда российское правительство только начало ссориться с грузинским правительством. Войны еще не было, армию к границам Грузии даже не подтянули, в то время просто выгоняли грузин из Москвы — и делали это грубо. Патрули останавливали смуглых мужчин, проверяли визы. Многие семьи, делавшие в ту пору ремонт, недосчитались кафельщиков и штукатуров — грузинских гастарбайтеров выслали за пределы страны в двадцать четыре часа. «Как всегда! — восклицали совестливые люди. — Ссорится начальство, а страдают простые люди, простые штукатуры! Кто нам теперь закончит побелку?»
Первая акция собрала много народу — пришли художники, рок-музыканты, прогрессивные журналисты, все те, кто не мог смириться с державным произволом. Каждый демонстрант нацепил на грудь значок с надписью «я — грузин!» и ходил по скверу вокруг фонтана. То был жест, равносильный поступку датского короля, который во время гонений на евреев выехал из дворца с желтой звездой на груди. Подобно датскому королю, московские интеллигенты дразнили правоохранительные органы: мол, проверьте и меня, хватайте и меня! Ходил вокруг фонтана взволнованный Лев Ройтман, источая сильнейший запах шашлыка; ходил со скорбным выражением лица доцент Панин; приехал на дорогой машине с шофером архитектор Бобров, тоже походил некоторое время по скверу, погоревал вместе с другими. Даже демократ номер один Сердюков, и тот приехал, сказал свое знаменитое «футынуты», и к его словам прислушались. Походив вокруг фонтана, демонстранты отправились кушать в грузинский ресторан «Бактриони», где подавали великолепное лобио, а сациви вообще умели делать только там, если говорить о настоящем сациви, разумеется. Со времен фрондерских посиделок на кухне — в брежневские времена кухня была единственным местом, где мыслящие люди не скрывали своих мыслей, — связь между свободным словом и питанием установилась прямая. Если человек хотел делиться своими соображениями без цензуры — ему необходимо было подкрепиться. Стоит ли удивляться, что грузинские рестораны в тот день были полны.
Бланк вспомнил реплику Татарникова, сказанную тогда, два года назад. Сергею Ильичу предложили принять участие в демонстрации протеста, а он отказался. «Вы не сочувствуете грузинам?» — спросила его Румянцева, и Татарников ответил: «Если собрались сочувствовать, так давайте социалистический интернационализм воскресим. А коль скоро интернационализма больше нет, то цель демонстрации непонятна». «Поддержка обиженных», — сказала ему Румянцева с достоинством. «Братание с прислугой? — ехидно спросил Татарников — Вы что же, и зарплату им повысить собираетесь?» Потом Сергей Ильич добавил: «Подождите, когда война с Грузией будет, вам придется уже не полотеров поддерживать, а чужих солдат. Пролетариев вы объединять согласны? Или только домашнюю прислугу?»