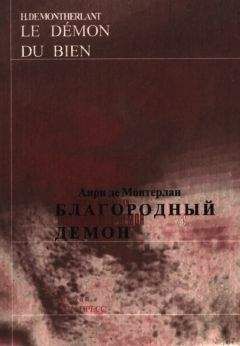Едва Соланж и Косталь заняли столик в саду маленькой пригородной траттории, как из дома выбежала целая команда котов и они рысцой потрусили прямо к ним, не обращая никакого внимания на других посетителей. Ярко-рыжий кот одним прыжком забрался на колени Соланж, полез по груди и, устроившись на плече, ткнулся мордочкой в шляпку, сбив ее набекрень. Он поднял, как полагается, хвост и повернулся своим полным задом прямо к носу Соланж.
А палевый кот! Просто феномен худобы и блошивости. Встав на задние лапы, он сначала терся носом о свисающую руку Косталя, потом вспрыгнул на стол поближе к его лицу. Когда рыжий дотронулся головой до шеи Соланж, Косталь заметил, как она вздрогнула. Потом сказала, что он пахнет ванилью, обычным запахом молодых, здоровых и чистых котов. Ее понимание этих животных подтвердилось еще и тем, как она разговаривала с рыжим. На каждую ее фразу он мяукал в ответ. Чем другим это могло быть, как не словами?
— С животными я всегда большая старшая сестра. А маленькой девочкой я вообще не отличала их от людей и говорила брату: «Если ты не перестанешь так стучать по аквариуму, рыбки будут плакать». Мне казалось, что лошади не нравится свое лицо, и поэтому когда она пьет, то разгоняет воду копытом, чтобы не видеть отражения. У нас была вилла в Тулоне, и, если дул сирокко, я вся как-то наэлектризовывалась, подобно зверям, которых это начинало сводить с ума. Мне хотелось бегать, и я увлекала за собой Гастона…
— Я уже давно заметил, у вас есть что-то от животных — как вы пристально смотрели на огонь, когда для нас делали омлет с ромом, или как вы говорите о ваших кошечках. Кстати, я ведь еще не знаю их имена…
— У них нет имен.
— Нет имен? Тогда как же вы подзываете их к себе?
— Я и не подзываю, они приходят когда хотят.
«Восхитительно, — подумал Косталь. — Вот где залог моей будущей свободы, если я женюсь на ней, а это уже достаточно вероятно. Ведь самое трудное с людьми, даже с друзьями, чтобы они сохранили вам свободу. Я буду приходить, когда сам захочу этого».
Из всех четырех только голубой кот назойливо просил еды; остальные, хотя тоже явились ради этого, благородно скрывали свою главную цель (а голубой еще подолгу обнюхивал каждый кусочек, который давал ему Косталь!). Когда была предложена на кончике пальца капелька горчицы, последовал раздраженный и осуждающий взгляд: О! месье много воображает о себе! Месье оскорблен! Верхом невыносимого оказалась апельсиновая кожура — месье одним прыжком исчез, но потом вернулся и сидел в трех шагах от столика с другой стороны. Сиреневый кот, сидевший на столике, впился глазами в Соланж, время от времени открывая рот с безмолвным мяуканьем, похожий одновременно и на тюленя, и на медвежонка. Она сказала:
— Насколько трогательнее молчание животных, чем вся эта людская болтовня!
— Да, однако молчание человека еще выразительнее, чем безмолвие зверей. Простите меня, но, слыша о разуме животных, я иногда думаю, что они… что они просто глупы.
Палевый кот засунул голову в полусжатые ладони Косталя, как ребенок, плачущий на руках матери, или любовник в объятиях женщины. Когда подали еду, Косталь сразу даже не пошевелился, боясь спугнуть животное. Но, к счастью, кот поднял голову и увидел вдали маленького мальчика, который, судя по всему, понравился ему больше, чем Косталь, и, бесцеремонно спрыгнув на землю, побежал потереться о голые лодыжки ребенка, так что уже можно было приняться за завтрак. Но сиреневый кот, как бы дождавшись своей очереди, подобно прихожанину перед исповедальней, пожелал занять опустевшее место.
Чтобы освободиться от него, Косталь постелил на землю журнал. Сухие листы своим хрустом возбудили животное. Сидя на задних лапах и играя с журналом передними, он то падал на спину, притворно теряя равновесие, то усаживался на листы с торчащим кончиком языка, похожим на ветчину, свисающую из бутерброда, и сам не замечая этого, а двадцать человек вокруг, конечно же, ничего ему не говорили, как и какому-нибудь господину, на которого накапала птица. Когда кот собрался было снова вспрыгнуть на стол, Косталь строго посмотрел на него, и тот замер с поднятой лапой. Соланж сказала:
— То, как вы остановили его, похоже на мое воспитание нашей черной кошечки. Надо сказать, я не люблю ее, потому что она всегда была общей любимицей в доме, особенно отца. Стоит мне взглянуть на нее, она сразу меняется, прижимает уши и убегает, чувствуя мою неприязнь.
Помолчав, она повторила: «Да, я не люблю ее!» Это было сказано с такой страстью, что Косталь понял — когда-нибудь она может стать опасна.
— Я покажу вам кое-что получше.
Он положил руку на сиреневого кота, к самому корню хвоста, ладонью охватив зад. И тогда (это была, несомненно, кошечка) она совсем потеряла голову. Вибрируя и вздымаясь в каком-то нервном пароксизме, с короткими всхлипами, извиваясь и как бы предлагая себя, она покрыла своей шерстью все лодыжки Косталя, показывая этим, что уже пора изгонять из нее бесов. Возбудился и сам Косталь. Перед котом, как и перед букетом цветов, ему хотелось танцевать, пасть ниц, биться головой о землю и, наконец, пожрать его; это был тот же порыв, который заставляет верующих съедать своего бога, любовников — кусать любимое существо (прообраз съедения). Но он только постанывал. По своего рода мимикрии лицо его стало похоже на мордочку кота, с этими детскими глазами невинного безумия, и он даже мурлыкал, настолько естественно, что склонившаяся к нему Соланж замерла как завороженная.
От этого завтрака у него остались два сильных впечатления: 1) анимализм Соланж, столь приблизивший ее к нему; 2) тот ее странный взгляд (ревности?), когда он долго держал в своих руках маленькие горячие лапки палевого кота.
Из кафе они поехали в порт. Небо было голубое, море водянисто-зеленого цвета. На его поверхности надрывались пароходики. С набережных шел запах пеньки, смолы, дерева и рассола. На перегретых баржах спали грузчики. Отчаливал пакетбот и, выходя из порта, издал крик, словно подбадривая себя, такого несчастного. Сзади из него полилась струя воды, как будто он описался от страха. Несомненно, это судно еще не привыкло к своей профессии.
Они взобрались на мол и сели на канаты. Восхитительная смесь свежего ветра и горячего солнца! Время от времени о подножие мола, словно взрыв, разбивалась волна. Отваливал парусник, он назывался «Dignitas» (представьте только французский траулер с латинским именем «Достоинство»!). Его швартовы, кольцами падавшие на набережную, в точности походили на морских змей. Солнце вырисовывало на бортах танцующий мраморный узор из цветов и языков пламени. Тень, которой одно судно накрывало другое, зеленела абсентом. На зыби качались чайки, и по их виду было ясно, как им uncomfortable[22] от приступов морской болезни. И среди всего этого движения в порту только моторная лодка щеголяла своей скоростью. Она уже исчезла из виду, но на воде еще долго сохранялся ее широкий след, похожий на пенистый трезубец Нептуна.
Соланж заметила, что причаленные баржи с их сердцевидными бортами и непрестанным покачиванием на волнах напоминают мятущиеся сердца. В ответ Косталь произнес поэтическую речь о «баржах с женственными боками, подобных верховым кобылам, которые, когда волна приподнимает их, как бы перепрыгивают через препятствие, и чувствуешь под собой их волнообразное движение». Он признался, что если, оказавшись в лодке, попадал на зыбь, ему всегда становилось как-то не по себе. Соланж не захотела признать себя побежденной: она сравнила плавные движения причаленных барж, то приближающихся, то отдаляющихся друг от друга, с теми детскими качалками, в которых матери убаюкивают младенцев.
На это Косталь сказал, что их состязание на заданную тему похоже на песни древнегреческих волопасов, и за образ детских качалок она заслуживает корону из цветов.
— Я победил в укрощении котов, а вы — в турнире образов. И кто же получит награду прекрасной дамы?
— Тот, кто сможет смотреть на солнце.
Косталь напряг бицепсы: солнце и он (или: «Он и солнце»)! Что ж, посмотрим.
Соланж подняла голову, зрачки ее расширились. Она смотрела прямо на солнце.
— Вы смотрите в сторону!
— В сторону!.. Но почему такое недоверие?..
— Это как у грека гомеровских времен. Начнем сначала.
Он взглянул немного ниже солнца (это было легко), обругал его интриганом, бахвалом и еще хуже того, стараясь запугать. Потом красивым движением подбородка, с видом фотогеничного диктатора, направил глаза… Но на самом деле так никуда и не направил — едва взгляд его коснулся пылающей короны, как он резко отвернул голову, глаза наполнились слезами, зрачки воспалились, как у зубра, которому медведь перегрызает горло.
— Ах ты, сволочь!
Зато его кошечка спокойно подняла голову к зениту. Черты лица у нее сделались жесткими, зрачки расширились во весь глаз. И она уставилась прямо на солнце.