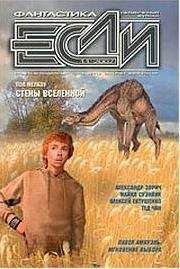— Не слушай ее, Семён Степаныч, — дружески утешил Роман. — Хирургическая операция болезненна, но от иных болезней только она и спасает. У тебя с озером как раз тот случай. Гони всех в шею, и дело с концом! Это самый простой и самый эффективный способ, лучшего нет. По-моему, так надо смело и отважно ввязываться в драку, а потом уж смотреть, что из этого получится. Это только на первый взгляд кажется абсурдным, а по существу — самый краткий путь к победе. А если нюни разводить — толку не будет, поверь. Тогда Ванечка, уж точно, никогда не узнает, что такое Царь-озеро.
— Почему, делая добро, вы сеете тотчас и зло? — страдающе возражала женщина. — Как это у вас получается? Самое дурное — когда устанавливают законы, запреты без истинного знания. Должно быть наоборот: сначала знание, потом закон. И нельзя применять грубую силу! Это… это недостойно. Заповедник и заказник должен быть здесь, — она положила свою весомую руку на грудь Семёну, как раз напротив сердца, и сердце тотчас сделало сбой, того и гляди, остановится. — И не только у вас, Семён Степаныч, а у каждого из людей.
— Ведьмочка, не мучай человека раскаянием, — опять вступился Роман. — Это совсем ни к чему: если обратить его в твою веру, он не сможет жить — его распнут, как Христа. За смирение. Ты пойми, мы живем по другим законам. У нас другие измерения, свои представления о добре и зле. А ты в наш монастырь со своим уставом.
Ладонь женщины опахнула лицо Семёна и чуть тронула рану под глазом — боль совсем исчезла, как будто ее и не было.
— Так нельзя, — повторила она тихо.
— И можно, и нужно! — убежденно возразил Роман. — Я не знаю, прав ты или не прав, Семён Степаныч, со своим запретом на озеро, но мне нравится, что ты сражался сразу с двоими. Пошли с ними поговорим еще раз, по-мужски, двое на двое. Вот они, вот мы, между нами нейтралка. Вперед, Семён! Наше дело правое, победа будет за нами.
И тут Размахая осенило: он узнал его! Как это вчера не смог?.. Это лицо столько вечеров маячило на экране телевизора и столько же звучал этот голос. Уверенный прищур глаз, прямой взгляд… но нет шрама через верхнюю губу и щеку! Шрама нет — вот что сбило вчера с толку.
Этот человек снялся в главной роли многосерийного фильма о бывшем солдате-разведчике по имени Иван, который по прошествии многих лет, будучи старым уже, никак не мог забыть войну, был болен ею. Раз в четыре-пять лет с этим контуженным что-то происходило: в назначенный им самим срок инвалид превращался в солдата. В полночь выходил он из дому, шел скрытно, отсиживался в укромных местах; варил в солдатском котелке кашу, зорко следя, чтоб дым костра не выдал его; считал автомобили на дорогах и трактора в полях; закапывал бумажный сверток под железнодорожное полотно и жадно смотрел, как невредимыми проходят поезда… кидался ничком в траву, в грязь, если показывался высоко вверху самолет… Время от времени короткими пробежками, залегая и вновь поднимаясь, с деревянной палкой наперевес, «брал» очередную высотку, а взяв, долго просиживал в безмолвии и плакал. Ему слышались родные голоса, виделись знакомые лица, чудилось и то, и это.
Усталый, измученный, он продолжал путь далее. Иногда стучался в окно знакомого ему дома, хозяйка которого ахала в изумлении, узнав его. Иван тайно жил у нее день или два и так же тайно покидал гостеприимный кров. Снова шел, таясь от людей, переплывая реки с риском для жизни, переползая поля, проходил неслышно и невидимо через малые селения и большие города.
Непостижимым образом этот бывший фронтовик-разведчик пересекал государственную границу и шел уже по польской земле; пожилая полячка обнимала его, появившегося перед нею неведомо как и откуда. Он выслушивал ее исповедь о житье-бытье и отправлялся дальше: пробирался по тоннелям метро, по фермам железнодорожного моста… спрыгивал на крышу идущего на полной скорости поезда, вскакивал в мчащийся грузовик.
В очередной раз, перехитрив бдительных пограничников, оказывался уже в нашей зоне Германии. Немецкая семья — две седые женщины, старик и мальчик — при свечах угощали Ивана непременно скудными кушаньями военной поры, а иного он ничего не ел. Этот чудак не знал ни польского, ни немецкого языков, но умудрялся поговорить душевно со всеми.
Наконец, в Берлине его, пляшущего на улице, ликующего, «брали в плен». Следовало выяснение личности, его узнавали знакомые и журналисты, он публично давал обещание, что никогда больше не будет нарушать границ, после чего присмиревшего, печального солдата при орденах и медалях с почётом отправляли домой.
Именно такого, калеченного и страдающего, любил его Семён Размахаев, тем более, что в этих странствиях у Ивана было множество приключений смешных и трогательных, героических и страшных; впрочем, любил он его и молодого, в начале великих испытаний, вот такого красивого, каким ныне — просто невероятно! никто не поверит! — увидел на берегу своего озера.
— Уймись, Рома, — тихо урезонила его спутница. — Тебе только бы сражаться! Ваши враги уже уехали.
— Прекрасно! — актёр так же легко отказался от намерения подраться, как легко и принял это решение. — Ты победил их один, Семён Степаныч. А жаль, я б тоже повоевал с этими каратистами.
— Как вы все любите воевать! — страдала женщина, и глаза ее были такими печальными, что Семён огорчился. — Зачем вам это?
— Воинская доблесть, умница моя, — высшее проявление человеческого духа. Отважные воины — элитарная часть человечества. Подвиг в бою всегда был предметом преклонения и восхищения. И ты не права, утверждая, что война — это болезнь. Войны бывают и священными. Они есть необходимый путь, который надо пройти, чтоб достигнуть нравственного совершенства, да и новой ступени цивилизации тоже. Разве у вас не так?
— Нет, нет, нет, — качала головой женщина, глядя на него, как на неразумное дитя.
— А у нас это ясно каждому. Вот в Архиполовке наверняка пели во дни былые такую частушку.
Запевай, товарищ Сёма,
И не бойся критики:
Все хорошие на фронте,
А в тылу — рахитики.
— Слышишь суть? Хорошие те, что на фронте, в бою, они защищают родину. Таков глас народа. Человек должен пройти закалку в огне и воде, равно как и все человечество в целом.
— Ты совсем не похож на своего Ивана, — решительно сказала женщина. — Он — не воин, а хлебопашец по сути своей. Воинский подвиг был для него вынужденной необходимостью, которая его тяжко угнетала. А ты болтун, как все твои друзья-актёры.
— Ну вот, ты уже сердишься, умница моя. Значит, чувствуешь, что не права.
— Тут надо подумать, — сказал сам себе Семён, и на него оглянулись. — Надо подумать.
Удивительным было в эту минуту лицо Размахая! Он, по обыкновению своему, остолбенел, то есть охвачен был весь размышлением. Вот так, да: весь был охвачен и весь направлен, нацелен на работу мысли. Жаль, Роман не оценил, очень уж расположен был к веселости.
— Он мой поклонник, а не твой, — тихо сказал актёр подруге, — следовательно, я прав, а не ты.
— Я тебе его не уступлю, — так же тихо, однако же слышно для Семёна отвечала она, искоса и этак сострадательно наблюдая за ним. — И не корысти ради, а во имя торжества истины.
Взгляд ее, ласковый и спокойный, заставил Семёна оглянуться, он почему-то смутился совсем по-детски.
— А ну, пошли отсюда! — закричал он вдруг на коров, стоявших вокруг них кольцом. — Ишь, вылупились! Интересно им. А ты чего встал? — это коленопреклонённому Мите. — Очень тебя просили!
Стыдно признаться, а как утаить: вдруг испытал приступ ревности к Мите, который так рыцарски рухнул перед женщиной на колени.
12
Теперь стадо паслось в сторонке, и когда одна из коров вознамерилась было нарушить мирный быт обитателей оранжевой палатки и направилась к ним, Семён примерно наказал ее, после чего Митины подруги вели себя благонравно.
Сам же пастух держался в почтительном отдалении от гостей и выискивал в уме своем предлог еще раз подойти, поговорить.
«Она считает, что главная беда от нашего невежества, — размышлял Размахай. — А что? Это верно: невежества в нас очень много. Нужно, мол, убеждение и только оно. А Иван за то, чтоб убеждать самым коротким и сильным способом. Вроде, оба заодно, однако какое между ними несогласие! А я как? Не знаю…»
Он ощущал необыкновенный подъем сил и готов был услужить своим новым знакомым во всем, прикажи они только. Однако, боясь показаться назойливым, удалился ровно настолько, чтоб не мешать им, а в то же время не мог отойти далеко — взгляд его будто магнитом тянуло к этим людям. Пастух следил боковым зрением, как расхаживает по берегу залива с кувшинками актёр — все ему нравилось в этом человеке! — как он мягко, упруго ступает, какие у него крупные красивые руки, а уж голос — тот, Иванов, голос!