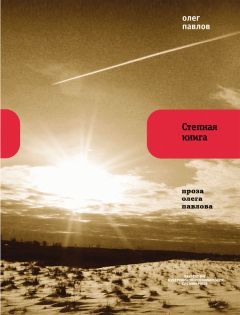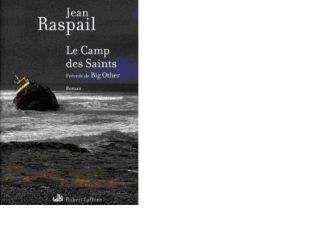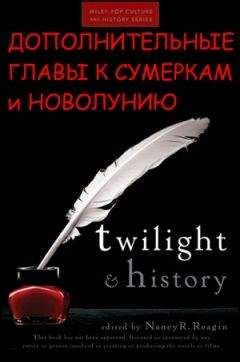В шестом часу, гремя автоматами и пуская за собой по дороге муторный пыльный дымок, отдохнувший за воскресенье взвод шагал бодро на зону. Казарма и двор осиротели без солдат. Но вскорости на той же дороге показался новый их строй — чуть озлобленных да усталых, тех, что только сменили после суток в карауле. Это воскресенье им было не в корм. Свой выходной они задарма разменяли на службе, а потому, может, и накопили злости. Так всегда бывало: повезло отдыхать в этот день первому взводу — значит, не повезло второму. Офицеры выгоняли из свежевыстланного убранства спального помещения, куда манила нетронутая чистота. От солдатского выходного на их долю осталось кино. Ленинскую комнату держали под замком и водили солдат раз в неделю, как в баню, когда крутили кино — и они сидели блаженно в темноте, в теплоте. Глядели на сверкающих актерок и миры. А сами беззвучно засыпали.
По правую руку от рыжего паренька шофера изнемогал от духоты пожилой офицер и пялил мучнистые от наросшей пыли глаза перед собой в степь, будто б ждал из самого ее сухого безжалостного пекла помощи. Надеялся он, что паренек справится с машиной или что должна же она завестись хоть бы и сама собой — а в то, что застрянут, так и не верил. Паренек отчаялся, и каждая неудачная попытка завестись прибавляла злости его захваченному врасплох настроению. Он выбрался из кабины, задрал пыльную покатую крышу двигателя, и скоро крикнул ждавшему начальнику, не показываясь из-под нее: «Илья Петрович, ничего не сделаешь, заморился, сжарился весь… Нету в радиаторе воды…» — «Ты, сучонок, сколько налил, что на полдороги хватило. Давай что хочешь мне залей, и поехали. А то сгорим тут заживо.» — «Илья Петрович, я ж не верблюд, чтоб воду про запас возить. И здесь ее где мне взять, вы ж гляньте, это ж Африка!» — «Вот сука, угробил мне все дело! Бегом за водой, если так, лагерь близко. Ничего, добежишь…» — «Илья Петрович, да я-то побегу — у меня и канистра есть, но сжарился мотор, думаю, здесь цеплять надо, не завестись нам самим…» — «И машину угробил! Да ты чего, в морду хочешь?!»
Офицер запыхался, слез на каменистую, будто звенящую от полуденного зноя землю и приткнулся к пареньку. Он увидел черное, будто стертое насухо до черноты, нутро машины, что задохнулось в копоти, от которого еще тянуло прогорклым дымком, и обронил, уже упрашивая солдата: «Ну, никак не поправишь?» — «Руки сожгу. Здеся как печка. Сгорело все, как есть сгорело.» — «Ну ты подумай, что делается… Значит, вляпались мы крепко. А до лагеря-то ехать осталась с гулькин нос!» — «Так если сбегать, Илья Петрович? Дадут нам трактор и рванем на буксире с ветерком?» — «Ишь, умник, трактор тебе. Так сразу и трактор. Это до ночи их трактора ждать, будет из нас вобла… Вляпались! Надо зека выводить и пехать до лагеря, а там уж трактор. Поведу, а ты с бабаями оставайся, будешь за главного — один я быстрей, чем этих еще за собой тащить. За час, глядишь, обернусь. Ну, а вы терпите. Бог терпел — и нам велел.»
Когда солдатик согласно кивнул башкой и скрылся по другую сторону автозака, то Батюшков невольно почувствовал, будто б отпустил от себя что-то родное… Он никогда не размышлял над жизнью и все принимал как есть, сдаваясь безропотно перед тем, что было выше его понимания. Никогда не горевал, но и радовался чему-то редко. Довольствовался тем, что имел и не желал лучшего. В его комнатушке в общежитии работников режима стояла, будто б низенький нерусский столик, покрытая грубым солдатским одеялом железная койка, имевшая вид выструганных досок; на стену повешены были фотографии матери и отца в пору их молодости; имелся один платяной шкаф, сработанный тут же, лагерными умельцами; и разные вещицы помельче, которые давно вышли из надобности или приобретались бессмыслицей, по случайности, разбросанные по дому без всякого порядка. И так Батюшков обходился в быту, но не считал свой быт скудным, и полагал свое хозяйство достаточно серьезным, потому что был этим сыт, обут, одет и обустроен, чего и требовалось для земной жизни, а что-то оказывалось в его быту даже ненужным, — то, чего лишался без сожаления, приобретя по случайности или, как сам говорил, «сдуру». Жил по доброй воле так, как это заведено в казарме или в бараке для подневольных.
В лагерной роте не любили путевых конвоев — полдня в пути до Караганды и полдня в обратную, если повезло, если ничто и нигде не задержало дольше положенного. Лагерное поселение в кулундинской степи жило своей сонливой, почти мирной и нетюремной жизнью. Долгое марево степного лета и беспробудная степная зима, с ее снегами выше человеческого роста, мертвящими ледяными ветрами, близким свинцовым непроглядным небом, погружали это местечко будто б в сон. Казалось, что и зло здесь не свершится никогда, потому что круглый год живут люди по жаре или по морозу как во сне, ходят-бродят то жаркими бестелесными тенями, то окутанными паром и стужей призраками. Только командир батальона сновал туда-сюда по степи, по ротам степным, на верткой своей командирской машине, похожей на водомерку, с выгоревшим белесым верхом из брезента. Надавал выговоров, указок, поволновался — и пропал на день-другой. Толку от него не было. Но будто б надувал он своими перелетами свежий ветерок: прилетит в поселенье, поволнуется — и умахнет по степной глади.
Людей в поселенье так вот, как по воле ветра — кого заносило, кого уносило. Сроки и в лагере были строгие, сидели здесь за серьезное, по многу лет, основательный серьезный народец, а не шантрапа, кто уж знал, на что идет, и отсиживал свой срок пряменько, стойко, крепко-накрепко, будто б гвоздь, который вогнали по шляпку. Казалось, что если зека можно вытащить из лагерной барачной доски, куда его всадили, то разве клещами. И когда неожиданно требовалось вытащить кого-то из лагеря да свезти на следствие в тюрьму, в следственный изолятор — это и был путевой конвой — то фигурка этого снова подсудного человека на глазах гнулась, делая только шаг от зоны, а само то, что начинало происходить, казалось чем-то неправильным: вся эта дальняя чужеродная до тюрьмы дорога.
А без работы захирел в гараже арестантский фургон: он стоял у стены в углу, похожий угрюмостью на ископаемое. Солдаты из рембригады озверевали, когда давали им приказ поставить его на ход, барахтались с ним до ночи, а то и всю ночь напролет, чтобы поутру застывший фургон был готов тронуться с заключенным и конвоем в путь. Хоть такое дело случалось одно за год и можно было б проехаться по всей карагандинской трассе, испить, если начальник раздобрится, кваску, а то и пива в самой-то Караганде, те, кто по службе только и стояли сутками на вышках, мало радовались назначению в путевой конвой, соображая, что надо ехать тряско, много часов, в духоте, закрученным в кузове автозака, будто в консерву, — да и занятие это было для вышкарей малознакомое, чужое. Русские крик поднимали, не желая мучиться в конвое, соображая, что да по чем, а потому сажали в конвой двух солдат из нерусских, которые молчали и ничего не понимали, были как твари бессловесные — таких отчего-то рука сама тянулась у взводного не пожалеть, засадить в конвой. Эти хоть ныть не будут, будут терпеть — и вот за это терпение двужильное, почти скотское и было их не жалко. Батюшков и сам умел так вот все стерпеть, будто коняга запряженная, и к себе самому тоже не имел жалости. Жалко ему было мучить в конвое тех солдат, кто глядел на него заранее как на своего мучителя и уж готовился сдохнуть по пути, соображая, что все в этом конвое путевом будет им невыгодным — так невыгодно, будто б родиться на свет божий только для того, чтоб умереть.
Еще весной в лагере, не произведя волнений, свершилось безмолвное, не оставившее никаких следов убийство. Убили заключенного — извели свои же, а труп разнесли на куски и схоронили по зоне, так что отыскалась после чуть не одна голова. Это зверство было другим в урок. Заключенные не иначе как раскрыли между собой человека, что осведомлял оперативную часть. То, что убийство старательно подготовили, не было поэтому, верно, тайной и для оперативников. Зеки ж привели в исполнение свой приговор тишком и в оперчасти тоже сделали вид, что это была бытовуха, а не вызов яростный режиму. А спустя время отыскался и убийца — он показал голову, зарытую в кучу мусора. Сам дал на себя показания, сознался в убийстве заключенный, который никакого уважения в лагере не имел. Был он ничтожный человек, дурачок — живший кое-как, и часто побиваемый своими, так что во рту его было мало зубов. Частенько видели его и с вышек, как он побирался на помойной куче в жилой зоне — накапывал тряпочек, корочек, огрызочков и по-крысиному отбегал с тем ненадолго в строну, где-то припрятывал, а потом снова брался за работу. Мусорный человек, будто б сам из мусора слепленный. От такого только ждали, что не стерпит и удавится тихонько, а он убийство на себя взял, в убийстве сознался. Тогда и конвоировали его в Караганду, на следствие, где он темнил, держался несколько месяцев, а после стало понятным, что сам себя зачем-то оговорил. То ли вынудили его в лагере сознаться, а в тюрьме уж испугался до смерти, то ли сам он это все учудил, чтобы из лагеря вырваться, но была ему одна дорога, обратно в лагерь, а там — штрафной за враки да перед зеками ответ держать.