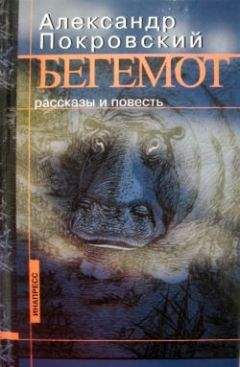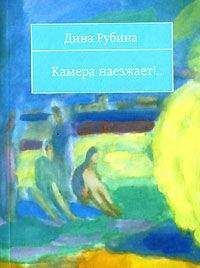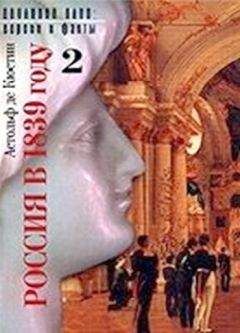туда свой нефритовый стебель.
А вокруг он – китаец, разумеется – уже разложил следующие обязательные предметы большой любви:
свисток неистребимого желания
крючок страсти
колпачок возбуждения
зажим нежности
бородавку утомления
серное кольцо Вечной Похоти
татарский любовный колокольчик и фамильный мастурбатор.
И уже изготовился. Сейчас приступит.
С трудом войдет в «беседку удовольствий». А пока только предварительно разглядывает. И от напряжения при разглядывании даже слезы на глаза выступили.
Все последующее (методологически) напоминает мне некоторые садомазохистические картинки. И будто в них участвую я: голышом надеваю роликовые коньки, и стройная женщина в черных крагах возит меня кругами по концертному залу, крепко держась за мой тоненький пенис.
Во всяком случае только я начинаю вспоминать, чем же там у нас закончилось дело с этими «Нисан-Патрулями», как тут же эти видения вытесняют из моего сознания все остальные воспоминания.
Помню только, что потом мы дружно встали на защиту армян, за что и заслужили их любовь и получили возможность немного погодя впихивать им остальные идеи. На прощанье они пожимали нам руки, обнимали и говорили:
– Приезжайте к нам в Ереван.
А моя жена, воспользовавшись случаем, бросилась в комнату, нашла, прибежала назад и вручила им мои новые туфли, которые она в свое время приобрела по случаю в Ереване на улице Комитаса в маленьком магазинчике, и которые нужно было там же срочно обменять, потому что один туфель оказался на полтора размера короче другого.
И эти армяне уехали от нас навсегда, сжимая от счастья в руках вместо «Нисана» мои дефективные башмаки.
Правда, мы потом много раз перезванивались, поскольку Араику нужны были игровые автоматы – «однорукие бандиты», и он звонил нам, а мы ему, с трудом добираясь до этого непрерывно отползающего в те времена от России Еревана, с которым то нет связи, то на том конце никто по-русски не понимает («Подождите, я Гамлета позову, он по-русски понимает, а я говорю, но не понимаю»). Наконец нашли мы ему эти автоматы, но нужно было в последний раз уточнить: такие-то они или сякие-то, и я еще раз дозвонился:
– Але, але, это Ереван? Позовите Араика. Араик:? Это Араик?
– Нет, нет, это не Араик, это его жена. Араик в лифте застрял.
И тут я сошел с ума, потому что долго дозванивался, потому что когда еще до них доберешься.
– Побегите к нему, – говорю я ей, – уточните, такие-то ему нужны автоматы «однорукие бандиты» или сякие-то?
И она побежала – слышно, что по дороге что-то упало, – и долго там выясняла у Араика, сидящего в лифте, какие ему нужны автоматы, а потом прибежала и переврала все до неузнаваемости, потому что очень волновалась и все по дороге забыла.
Мама моя!
Как меня успокаивает, если я, после всяких таких вот событий, открываю автора, настоящего певца печали, на любой странице и читаю:
«… Чувство! Лежит в основе. Это точка опоры. Она не сводится к понятию, исключая то краткое (можно сказать) мгновение, когда чувство выносит приговор Вселенной. Затем чувство либо умирает, либо сохраняется…» – и все, захлопываю.
Настоящих авторов, лохань их побери, никогда не следует читать вдоволь (чуть не сказал – вдоль), тогда это успокаивает и помогает сохранять равновесие.
Хотя иногда руки опускаются
И у Бегемота тоже.
Видели бы вы, как они у него опускаются: он – крупный, белый, а они медленно так поползли, поползли и достигли пола.
О, хрустнувшая хризантема моей души! – говорю я ему в такие минуты. – Знаешь ли ты, что величаво-спокойное, проще говоря, лирично-эпическое повествование более подходит твоему невыразимому отчаянию. Кстати, в такие минуты я почему-то представляю тебя старым, толстым и на одной ноге. Вторая у тебя смачно оторвана на службе короля Георга. Но ты опираешься на плечи молодых своих собратьев и орешь им: «Сарданапалы! Мухины дети! Все очком будете у меня воду пить! И им же верблюжьи колючки носить с места на место!». – а потом ты успокаиваешься и рассказываешь им о пулях-штормах-парусах и о том, как ты водил по морям отечественные тральщики, и на глазах у них блестят романтические слезы, каждая величиной с австралийскую виноградину.
И сейчас же руки у Бегемота возвращаются на прежнее место.
И в глазах появляется блеск, который я считаю совершенно нормальным для современного военнослужащего: будто вскрыли старинный сундук, а там. – «пиастры! пиастры!».
Это ли не повод вспомнить о душе?
Душе военного, я разумею.
То-то весело было бы для какого-нибудь исследователя ее отыскать, обнаружив при этом незначительные ее размеры в сочетании с несомненными ее качествами, – наивностью, невинностью, светлостью.
Душа военнослужащего – это то, что растет у него всю жизнь.
И в конце жизни значительную часть ее составляет честь и совесть или то, что он вкладывает в эти понятия.
Исключение составляют генералы, которые всю жизнь существовали при чем-нибудь вкусненьком.
Им в душе отказано.
Бирюза
– О, озарение святое, снизойди! – молили певцы и поэты древней Месопотамии, и озаренье снизошло – все они остались без штанов, потому что озарение – один из способов освещения мрака: всем в одночасье становится ясно, куда идти, но при этом все чего-то лишаются – одни невинности, другие – благов и благости.
И на нас с Бегемотом снизошло озарение. (Я, кстати, тут же поинтересовался относительно штанов.)
Оно снизошло утром в пятницу, и душу сразу так затомило-затомило, потому что мысль озаряющая пока еще не до конца состоялась и какое-то время существовала в виде бледновато-клочковатом, но потом сразу раз! – и мы поняли, что не можем жить без бирюзы.
– Бирюза! – вскричал Бегемот. – Бирюза!
– Говорил ли я тебе, Саня, – обратился он ко мне тут же, от возбуждения сжимая до боли мой случайно оказавшийся рядом с ним большой палец правой руки, – что теперь мы будем заниматься исключительно бирюзой – этим благороднейшим из каменьев, измеряемых в каратах. Знаешь ли ты, что у меня есть технология производства бирюзы в несметных количествах. И мы прежде всего, конечно же, снабдим всю Армению этим богатством. У нас все армяне будут ходить с бирюзой. Они спать будут с бирюзой. Они жрать будут с бирюзой. Я бы даже на улицу запретил бы им выходить без бирюзы. Помчались!
Опять помчались!
Вы не знаете, почему русские люди всегда куда-то бегут, мчатся, распуская по воздуху слюни?
И почему русскому человеку можно пообещать что-нибудь, но не сделать, а потом пообещать ему еще что-то, еще более значительное, чтоб у него глаза на лоб полезли, и он опять поверит? И опять побежит.
Почему в России нельзя спокойно сесть и положить в рот кусок варенной на пару лососины в белом соусе и,
обратившись в глубины своего существа,
наблюдать за тем, как она непринужденно растворяется,
уверенно теряет свои первоначальные очертания и в ней образуются плешины,
промоины,
легко ощущаются волоконца;
и во взоре твоем благодарном
от всей этой ерунды
сейчас же появится масло
и то глубинное успокоение,
какое свойственно разве что только кустам бузины после дождя?
Почему у нас всегда так: только отправил кусок за щеку, как рядом обязательно оказывается некий запаршивевший от невзгод козел, доверху напичканный радиомусором, который говорит безо всякого умолку о налогах, бюджете, думе, парламентаризме, перемежая все это – «вам, конечно, будет небезынтересно» и «но мы-то с вами понимаем?».
Как хочется выловить в тарелке дробиночку перца и, придвинувшись к нему вплотную, – «простите!» – щелчком направить ему ее в глаз, лучше в правый, и с удовольствием необычайным по своей полноте наблюдать, как он задохнется от слез, заплюется, закашляет, а лучше забить ему в грызло обмылок или этот, как его, который разбухает, как груша, и заполняет, надеюсь, все помещение, как кляп какой-нибудь, и будет еще не раз то разбухать, то опадать, то разбухать, то опадать, пока не изольется душной Амазонией.
Я думаю, что это все из-за пассионарности.
То есть, я хочу сказать, из-за склонности этой страны к пассионарности.
Периодически встречаются тут несколько мудаков-пассионариев, и весь этот бардак начинается заново.
Все это – как шляпа по кочкам – пронеслось в моей голове, пока мы с Бегемотом бежали за бирюзой, и если с высоты птичьего полета посмотреть на то, как мы бежали, то многое, наверное, на этом свете нам должно проститься: столько в этом беге было наивной веры и надежды, а также – волглости, смачности, сочности.
И у Бегемота работали на лице все его мускулы, а взор его глаз – бесстыже чистых – был обращен чуть вверх, словно он наблюдает сошедшую с небес лепоту или зарю на вершинах деревьев.
Порой он прищелкивал языком, как вампир, порой улыбался, как дервиш, который уже видит танцующих гурий, а то вдруг останавливался и начинал говорить.