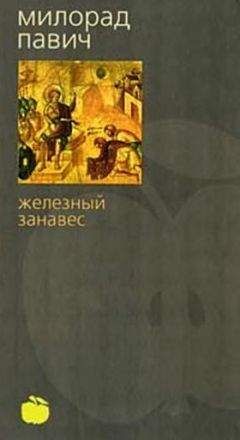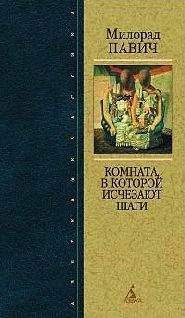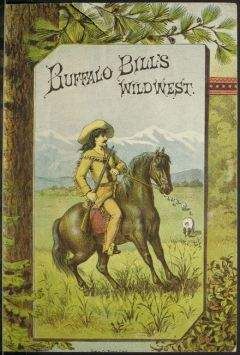Церковь была готова, но, когда турки вышли к Дунаю, у Радачи не осталось ни сил, ни времени, чтобы спуститься вниз. Он видел, как всадники стремительно неслись к берегу. Он знал, что они не покидали седел более шестидесяти часов, и сейчас, на подступах к границе вражеской империи, многие спали, вцепившись зубами в гривы, а кони не засыпали под ними только потому, что их члены были завязаны волосом из хвостов. Было видно, как, оказавшись на берегу, турки просыпаются, поят своих коней и мочатся в воду, не сходя с седла. Радача представил, как они будут убивать его этими воняющими мочой руками. Он видел, что некоторые из них уже въезжали верхом в церковь, замечали на стенах следы крови от его раздробленного пальца и думали, что кто-то уже опередил их в убийстве и грабеже. Он видел и то, как они подожгли здание. Выждав, когда огонь разгорится посильней и турецкие всадники, спасаясь от дыма и жара, отъедут в сторону, Радача вылетел из дверей церкви и бросился в Дунай. Он плыл, зажав во рту палец, чтобы река не высосала кровь, турки стреляли в волны, а он в воде потел от напряжения, боли и страха. Когда он оказался на другом берегу, уже наступила ночь, но было светло как днем. У него за спиной, на берегу Дуная, горела его церковь в Раиноваце, и огромные, раскаленные добела куски камней летели вниз, освещая оба берега, и, рухнув в воду, с шипением угасали.
На новом берегу он лег в грязь среди камыша и заснул. Ему снилось, что он плетет из тростниковой тени корзину и ловит в нее горящую птицу. Он проснулся в христианской империи под тенью облака, без пальца и голодный, но теперь ему не надо было прятаться и постоянно спешить. С расстояния в один день хода он слышал бой часов и звуки колокола на башне в Сланкамене, однако, добравшись до города, не смог разыскать Диомидия. Спустя некоторое время он с большим трудом обнаружил его в тюрьме, закованным в кандалы. Иезуиты не позволили Диомидию строить церковь восточного обряда, поэтому без специального разрешения из Вены он не смог заложить фундамент и приготовить строительный материал. Пока что он считался подозрительной личностью, и Радача едва за выкуп вызволил его из заточения. И вот теперь, так и не исполнив задуманного, они оказались наконец в безопасности, но охваченные отчаянием и затерянные в толпе беженцев с юга, которая заполонила берега Дуная вплоть до самого Будима. Увидев это, Радача пошел к иезуитам и потребовал разрешения на строительство церкви любого обряда, потому что самым главным для него было строить, а все остальное казалось не столь уж важным. Он получил ответ, что деньги на строительство церкви, разумеется, можно пожертвовать сразу, но что монах восточной христианской церкви должен сначала оказаться от изначальной веры и сможет приступить к строительству только после того, как будет принят в новую, как ему сказали, единственно истинную, католическую, папскую веру, на что потребуется время. Услышав это, Радача впервые сказал, что придется подождать. Они поставили палатку посреди сланкаменского поля, купили арбузов, залили их ракией, чтобы они дозрели, наловили рыбы и стали ждать. Когда орды турок и татар перешли Дунай, невиданным по мощи ударом заставили пасть Белград и направились дальше в Срем, Радача решил посмотреть, кто первым, он или иезуиты, покинет Сланкамен. Монахи из монастыря Раваница, спасаясь бегством и продвигаясь на север по Дунаю на лодках, провезли с собой тело сербского князя Лазара Хребляиовича, царя-святого, за ними последовали монахи из Шишатоваца с мощами деспота Стевана Штиляновича, а монах Ириней Захумский и его товарищ продолжали ждать. Потом по Дунаю в сторону Будима и Вены проплыли монахи из Крушедола с мощами последних Бранковичей и монахи из Хопова с мощами святого ратника Теодора Тирона, а Радача и Диомидий продолжали сидеть среди сланкаменского поля и ждать. Когда из опустевшего Сланкамеиа ушли и иезуиты, Диомидий наконец смог начать подготовительные работы. В сланкаменском поле они начали строить маленькую церковь Пресвятой Богородицы, но преимущество во времени, которое они приобрели, бежав от турок, сошло на нет, и у них опять, как и раньше, осталось на работу только три-четыре дня. Когда зазвонил колокол и строительство было закончено, Радача обнял своего друга и простился с ним. С сожалением сообщил он ему, что теперь им придется расстаться. Отныне Радача собирался работать один. По очень простой причине. Следующее здание Ириней Захумский намеревался воздвигнуть в тех местах, где родился, а это означало, что ему придется снова переплыть Дунай, пробраться через передовые отряды турецких сил и проникнуть к ним в тыл. Когда Диомидий в очередной раз спросил своего товарища, в своем ли он уме, раз хочет вернуться туда, откуда они еле выбрались живыми, вместо ответа Радача нарисовал ему на прибрежном песке всего одну букву.
После расставания Диомидий направился в Будим и там, на Джерзелезе, возвел прекрасное здание, которое стоит до сих пор, а Радача еще раз переплыл Дунай и незаметно проник в тыл туркам, держа путь домой, в Боснию, где в Дреновице собирался выстроить храм Богородицы Млекопитательницы. Однако как раз в это время, после страшного поражения в бою под Сланкаменом 19 августа 1691 года, где погиб сам могущественный Мехмед-паша Чуприлич, турецкая армия, как огромная волна, покатилась от Дуная назад на юг. Снова, только в обратном направлении, она бешено сметала все на своем пути. Так Радача Чихорич еще раз оказался в том же положении, в котором находился до сих пор: он бежал и строил, строил и бежал. Может быть, он делает это и сейчас…
Как бы то ни было, в 1971 году во время одного путешествия автор этих строк установил, что церкви или развалины тех церквей, которые построил Милько, или Радача, Чихорич, существуют до сих пор. Все, кроме одной — Богородицы Сланкаменской, которая, видимо, была стерта с лица земли во время битвы между австрийской и турецкой армиями. Он также установил, что легче всего их обнаружить, двигаясь по вполне четкой и определенной линии, соединяющей эти церкви. Эта линия, которую нетрудно разглядеть и сегодня, представляет собой греческую букву Θ (фиту), которую Радача Чихорич выучил на своем первом и последнем уроке письма и узнал на иконе из Пелагонии. На земле между Жичей, Моравой, Смедеревом, Сланкаменом и Дреновицей он оставил необычную запись, изобразив на огромном пространстве единственную известную ему букву единственным доступным ему орудием письма — тесаком. Запись Радачи Чихорича, сделанная тесаком выглядит так:
I
Дело было сразу как кончилась Вторая мировая война, я все еще ходил в военной форме, хотя уже демобилизовался и снова работал на прежнем месте в оперном театре. Деревья в парке, окружавшем оперный театр, стояли уже голыми, и поэтому в тот вечер 1945 года звуки репетирующего оркестра долетали так далеко, что Василь вполне мог их услышать. Он шел не спеша и нес в кармане рекомендацию, выданную ему коллективом художественной самодеятельности «Абрашевич», в котором он до этого работал бесплатно. Пока он шел, его пальцы в заштопанной перчатке слегка подрагивали, потому что мысленно он исполнял Allegro из концерта для скрипки с оркестром Бруха.
В тот момент, когда он дошел до децины, сильные звуки виолончели ворвались в мелодию, что звучала в его воображении, и все испортили. Так произошла первая встреча. Василь сначала не заметил, что слышит музыку и что эта музыка означает знакомство. А потом вдруг понял, что по другую сторону мощных звуков находится какой-то человек. Он понял и то, что эти звуки теперь, когда он так взволнован, могут оказать ему помощь. И убедился в том, что так оно и есть, когда вошел в здание театра, достал скрипку и начал настраивать инструмент. За его спиной вновь зазвучала виолончель, и он, словно зажигая свечу от чужой свечи, использовал этот одинокий звук для настройки. Пока он играл, а другие решали, принимать ли его в оркестр, он все время чувствовал позади себя то место, откуда исходили звуки, вселяющие в него храбрость. Кончив играть, он оглянулся в ту сторону и увидел меня. В первый раз.
— Все хорошо, — сказал я ему, — думаю, вас примут.
На одной из следующих репетиций Василь рассказал мне, какие музыкальные произведения он любит больше всего. И в частности, назвал партитуру концерта для скрипки с оркестром Моцарта, которую в то трудное послевоенное время нельзя было достать ни за какие деньги и которая имелась у меня, — этот том в роскошном золотом переплете я получил по наследству. Для меня, виолончелиста, она большой ценности не представляла, и я одолжил ее Василю на время, оказавшееся более долгим, чем наша совместная работа в оркестре. На самом деле уже в тот первый вечер Василь знал, что эту партитуру, так нужную ему самому, он вряд ли вернет тому, для кого она почти ничего не значит.