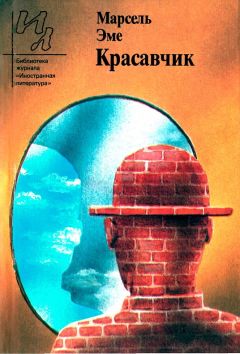Когда я вошел в кабинет, она, должно быть, с первого взгляда поняла, что жалела меня совершенно напрасно. На мне был новый, с иголочки, дорогой костюм великолепного покроя. И вдобавок я явился с сообщением о том, что вопреки ее предсказаниям сумел заключить сделку. Чтобы не лишиться ее расположения, я преподнес все так, будто своим успехом обязан прежде всего ей:
— Мне неслыханно повезло, но я вряд ли сумел бы воспользоваться этим, если б меня не поддерживала мысль о том, как сердечно и великодушно вы ко мне отнеслись.
— Не совсем так, — заметила Люсьена. — Если бы я сердечно отнеслась к вам с самого начала нашего разговора, то вы могли бы приступить к работе с массой сведений, которые облегчили бы вам задачу. Кстати, я собиралась их вам сообщить, но у меня нет вашего адреса.
— Это верно, я не оставил его. Но что касается этих сведений, то, поверьте, они помогли бы мне не больше, чем мое стремление оправдать ваше доверие. Если б вы знали, как я жаждал подняться в ваших глазах, заставить вас забыть о той нелепой и жалкой сцене, которую разыграл перед вами.
Люсьена принялась возражать, тронутая моим смирением и явно польщенная тем, что я так дорожу ее мнением. Здесь бы мне и поставить точку, но я перестарался. Невольно потакая ее потребности сочувствовать и опекать, я пространно говорил о бесхарактерности и неуверенности в себе, которые, дескать, свойственны моей натуре.
Я так беззастенчиво выворачивал душу наизнанку, так назойливо каялся в своих слабостях и так любовался при этом собственной персоной, что, видимо, несколько шокировал Люсьену. Но я понял это только после того, как уже распрощался с нею. Вспоминая все, что наговорил — а я был не в меру болтлив, — я убеждался в том, что это звучало фальшиво, неискренне, походило на безвкусную исповедь из какого-нибудь нудного романа или, того хуже, на жалобное нытье нищего. На душе было муторно и беспокойно. Все-таки раньше я был лучшего о себе мнения. Виноват Рауль Серюзье — не иначе как он снова проснулся во мне. А что, если все эти пресловутые внутренние изменения, которые я в себе обнаружил, не более чем самообман, которым я обязан Рене? Что, если я всего лишь доверчивый любовник, который принял за чистую монету то, что внушила ему влюбленная в него, но цепкая и решительная женщина?
На платформе станции метро, куда я забрел в задумчивости, я увидел весы с зеркалом и долго созерцал свое лицо. Мне показалось, что мои опасения, увы, не напрасны. Такие глаза с поволокой мне доводилось встречать у некоторых мужчин, которые стремятся во что бы то ни стало нравиться и готовы ради этого на любые ухищрения и ложь. Один поезд я пропустил. Стоявшие поблизости пассажиры дивились при виде человека, которого так интересует собственная персона. Я встретил в зеркале пристальный взгляд служащего метро и, чтобы оправдать свое стояние на весах, — не хватало еще, чтобы он сделал мне замечание, — опустил в щель пять су. Благодаря этому я убедился, что похудел килограммов на семь. Подошел следующий поезд. Войдя в вагон, я вспомнил о потерянных килограммах и впервые заподозрил, что у меня изменилось не только лицо, но и все остальное: руки, ноги, сердце, легкие, мозг, нервная система, так что от Рауля Серюзье не осталось ничего, кроме иллюзии, будто я еще продолжаю им быть.
Я посмотрел на свои руки. Они, похоже, не изменились. Такие же широкие, с короткими пальцами. На левой сохранился шрам, который я демонстрировал Жюльену Готье. Но одного этого доказательства мне уже было мало, и, наспех пообедав, я бросился домой. В зеркале я увидел, что талия и плечи стали уже, но раз я похудел на семь кило, в этом не было ничего удивительного. Мне не приходилось с таким вниманием разглядывать себя в зеркале, посмотришь иной раз мельком, да и все. Тем не менее я припоминал, что раньше около пупка у меня как будто была родинка, теперь же она исчезла. Впрочем, я мог и ошибаться. Может, я спутал свой пупок с пупком какого-нибудь приятеля или родственника. Когда сомнение остается, как-то легче на душе — можно маневрировать, отождествлять себя то с одним, то с другим человеком, смотря по обстоятельствам. Я все еще размышлял над этим, когда ко мне пришла Рене — она уже отправила детей в школу. На ней было элегантное новое платье, и я невольно отметил про себя, что обошлось оно, видно, недешево. Вслух же я похвалил ее вкус. Она улыбнулась, но улыбка вышла жалкой.
— Я так хочу быть красивой. Я боюсь, уже боюсь. Мне кажется, вы здесь как бы проездом, здесь у вас только временное пристанище. Мне чудится в вас какая-то неопределенность, неуверенность во всем и в самом себе. Может, я ошибаюсь?
— Ну конечно, Рене, вы ошибаетесь. Я так постоянен в привычках и чувствах, так тяжел на подъем, что порой самому стыдно. Разумеется, с тех пор, как я познакомился с вами, я изменился, и это сказалось на всем моем образе жизни. Действительно, во мне появилось даже какое-то беспокойство, но оно сродни вашему. Я тоже боюсь. Мне все кажется, что я в вашей жизни лишь…
Рене не дала мне договорить. «О-о, нет, нет, нет!» — воскликнула она и горько разрыдалась. «Дорогая, не нужно плакать», — твердил я. Ее слезы текли по моим щекам, по моим рукам. Я был потрясен ее страданиями. «Милая моя девочка, цыпленочек», — шептал я ей на ухо.
— Ролан, простите меня, я чувствовала себя несчастной. Уже с прошлой ночи. Я звонила вам, Ролан, простите меня за это, а вас не было.
— Так это были вы? Дважды, правильно? В первый раз я подумал, что мне это приснилось. Во второй — еле проснулся и слишком поздно подошел к телефону. Господи, если б я знал! Ну конечно же, я должен был, должен был сообразить!
— Не подумайте только, что я звонила, чтобы проверить, дома ли вы в час ночи. Клянусь, не поэтому. Мне было тоскливо, мне нужно было услышать ваш голос. О Ролан, я хотела услышать, как вы произносите мое имя. Все утро я еле сдерживалась, чтобы не разреветься, а тут еще это письмо…
— Письмо? Вы меня пугаете.
— Да нет же, не волнуйтесь, ничего особенного. Письмо из Бухареста, совершенно пустое, четыре ничтожных, ничего не значащих странички, но мне вдруг стало не по себе, я почувствовала какую-то угрозу. О, не думайте, что его возвращение помешает нам видеться. Нет-нет, эта угроза относится только ко мне: мне придется вернуться к прежней жизни, к постылой повседневности. Если б вы знали, если бы только подозревали! Я не хотела никогда ничего говорить вам о нем, но у меня просто сердце разрывается, и молчать нет сил. Это воистину гнусный, отвратительный человек. Хотя нет, это, пожалуй, уж слишком. Не гнусный, не отвратительный, в сущности, он не так уж глуп, даже в некоторых достоинствах ему не откажешь. Но мужлан, Боже, какой же он мужлан! И даже не догадывается об этом. Впрочем, разве он вообще может что-то чувствовать, о чем-то догадываться! Для него существует только то, что можно пощупать, он способен только на самые примитивные чувства. Любые тонкости, оттенки ему недоступны. Господи, откуда у меня брались силы и терпение, чтобы жить с такой посредственностью? Быть может, я смутно предчувствовала нашу встречу? Скажите, Ролан!
— Очень может быть, Рене. Да, скорее всего именно так. У женщин бывают такие предчувствия. Да и у мужчин. У мужчин тоже бывают.
— Мой милый, ты такой красивый, деликатный, благородный, ты понимаешь меня. Вам я могу сказать все. С вами я теряю робость и даже стыд. Я говорю, плачу, снова говорю, и все это время я ваша Рене. Как это странно. При вас мне хочется быть искренней, простой. А ведь вы не знаете меня. На самом деле я унылая домохозяйка, жалкая мещанка, скупая и тщеславная — в общем, жена своего мужа. Я такая, потому что такой и надо быть для него — приноравливаюсь. А он мужлан, мужлан! Для него ценно только то, что можно попробовать на вкус. Помню, накануне отъезда в Бухарест он жевал за завтраком колбасу и, громко чавкая, заявил: «Нет, все-таки добрый кусок кровяной колбасы — это вещь». Боже мой, да пусть себе обожает кровяную колбасу, пусть объявляет об этом, пусть чавкает, в конце концов. Но почему всякий раз, когда он открывает рот, я жду от него непременно чего-нибудь в таком вот духе? Хуже всего, что при всей своей грубости и толстокожести он ведет себя так, что его и упрекнуть-то не в чем! Жизнерадостный, добропорядочный, а главное — хороший семьянин. Он изо всех сил старается мне угодить, тут ничего не скажешь. В том-то и мука: безупречен, внимателен, а мне от него тошно — так кого же винить, как не себя? Я сама виновата в ошибке, в унизительной, закабалившей меня ошибке. Конечно, и мужчина вполне может ошибиться в выборе жены, и ему тоже бывает несладко. Но он как-то свыкается. Другое дело женщина. Для нее близость с нелюбимым мужчиной — насилие. Этот позор ничем не искупить. Я стыжусь мужа, мне до смерти стыдно перед вами, но больше всего — перед собой за свою ошибку. Смотрите на меня, презирайте меня. И, не будь вас, я бы и дальше пыталась притерпеться, извлечь из этой ошибки хоть какую-то выгоду. Я даже самой себе не осмеливаюсь признаться, как чужд и ненавистен был мне всегда этот человек. Ненавижу его, ненавижу!