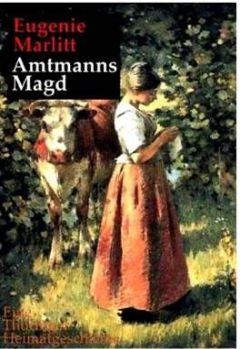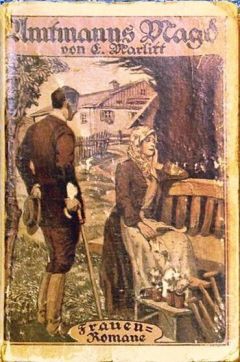Ознакомительная версия.
Измаил теперь всякий раз, когда слышал от Осман-бея те же рассказы, которые некогда уже слышал в Измире от Ахмеда, внезапно, самому было не понятно почему, грустнел.
Шесть дней спустя им разрешили свидание в комнате главного надзирателя.
В комнате главного надзирателя стоит железная койка, покрытая казенным одеялом, письменный стол, черная рваная клеенка на котором вся пестрит чернильными пятнами, и три табуретки. На стене висит фалака.[39]
Мать Измаила с Нериман сидят на табуретках, Измаил с Осман-беем сели на койку. Свидание им разрешили на час. Осман-бей рассказывал различные истории: «Когда я был в Германии, в Берлине однажды вечером коммунисты-“спартаковцы”…»; спрашивал у Нериман, как идут дела в школе (Нериман была в Стамбуле учительницей начальных классов), и хвалил Измаила его матери; «Я этих социалистов давно знаю, сам в свое время был замешан в этом деле, не волнуйся, тетушка, это честные ребята, когда-нибудь, как бы то ни было…» — и говорил другие тому подобные вещи.
Нериман говорила очень мало. Голос у нее довольно низкий, совершенно не соответствует ее глазам, не утратившим детскость. Матери Измаила очень понравился Осман-бей. Нериман с Измаилом не обменялись за все время ни словом.
Два месяца спустя Нериман приехала снова. На встречу с Осман-беем попросила позвать и Измаила. Они обменялись несколькими словами, надрываясь от крика. Нериман спросила у Измаила о его матери. А Измаил спросил Нериман, когда в школе начинаются экзамены. Осман-бей сказал, что на десятилетие Республики обязательно объявят амнистию.
— Теперь в Стамбуле Измаил каждый день будет бывать у нас. Теперь у тебя, Нериман, есть еще один старший брат.
Нериман спросила:
— Разве вы не поедете в Манису, к вашей матушке, Измаил-бей?
— Если нас выпустят, то, конечно, поеду повидать ее, но останусь в Стамбуле.
Ночью Измаилу приснилась Нериман. В тюрьме женщины снятся постоянно. Иногда снятся совершенно невообразимые. А иногда такие, что на лицо невозможно взглянуть. У некоторых нет ни волос, ни лица. Не всем им, дьявольским отродьям, удается тебя совратить. Ты бы и хотел, чтоб тебя совратили, но она, безбожница, не желает. Нериман тоже не стала. Она взяла Измаила за руку и огромными шагами — есть же в гимнастических упражнениях такие прыжки, напоминающие огромные шаги, — так вот, именно такими шагами, но не касаясь земли, они принялись летать, держась за руки, по камере.
Измаил вышел из тюрьмы в 1933 году по амнистии и сразу отправился в Манису к матери. Вернувшись в Стамбул, он закрутился: то собрания ячейки, то работу нужно искать, то печатать листовки на шапирографе да по ночам их расклеивать. В Кадыкёй, в дом к Осман-бею, прийти он смог только в одно из воскресений, после полудня. Османа дома не было. Он выпил кофе, который сварила ему Нериман, в гостиной на нижнем этаже тесного, узкого, уродливого каменного дома в одном из переулков неподалеку от кинотеатра «Сюрейя». В доме стоит тишина. На улице тоже стоит послеобеденная тишина. Теплый мягкий ветерок легонько колышет тюлевые шторы на открытом окне. На Нериман платье с короткими рукавами. Они молчат. Измаил вспоминает, как они летали с Нериман по камере. Он посмотрел на обнаженные руки девушки. С золотистыми волосками, смугловатые, округлые. «Возьми же, черт, возьми же эти руки».
— Вы молчите, Измаил-бей.
Он встрепенулся:
— Мне нечего рассказывать. Лучше вы расскажите что-нибудь.
— Как ваша матушка?
— Хорошо, спасибо. Как дела у Османа, все в порядке?
— В порядке, наверное. Я в них не разбираюсь, да и не спрашиваю ни о чем. Женщины не должны вмешиваться в мужские дела.
— С чего это? Вы же работаете, как мужчина, хвала Аллаху. Зарабатываете себе на жизнь.
— Да, но все равно… Женщина — это женщина, даже если она одна содержит семью.
Измаил заговорил о равенстве мужчин и женщин. Он говорил что-то вроде того, что женщину, то есть трудящуюся женщину, нужно освободить не только от эксплуатации капиталом, но и от эксплуатации стирками и тазами, от эксплуатации на кухне. Нериман слушала его речи, глядя на него своими черными глазами, не утратившими детскость, то изумляясь, то с симпатией, но ни разу не согласилась с тем, что говорил Измаил.
Примерно через месяц Измаила снова поймали. Около восьми месяцев он провел в тюрьме Султанахмед, в «ложах»… Каменные камеры с единственным окном и выходом в узкий коридор, не имеющие никакой связи с остальным зданием тюрьмы… Нижний этаж тоже такой же. Но коммунистов держат в «ложах» на верхнем этаже. Был день свиданий. Керим разговаривает с Измаилом об Ахмеде. Вспоминает, как они в 1925 году продавали газеты на Галатском мосту. Измаил сказал:
— Бог с ним, с этим со всем, скажи-ка мне лучше — помнишь, в Москве у тебя девушка была, у вас еще с ней все хорошо было, но она никак не могла заставить тебя произнести «Я очень тебя люблю»…
Керим почесал густые брови.
— Я в те дни жутко ненавидел ложь, — он затянулся сигаретой, — и курение, а теперь привык и к тому и к другому.
Измаил ответил:
— Тогда дай-ка сигарету.
Керим порылся в карманах. Вытащил три сигареты, одну протянул Измаилу. Измаил разорвал сигарету пополам и вставил в длинный деревянный мундштук.
— Зия говорил, что попрошайничать табак — самая презренная разновидность попрошайничества.
— Правильно говорил.
Измаил принялся сквозь зубы насвистывать Марш десятилетия Республики, а затем вынул мундштук изо рта.
— Знаешь что, братец мой, — сказал он, — поэты написали в словах к этому маршу: «За десять лет взрастили мы пятнадцать миллионов эров».[40] Потом смотрят, на слух, когда читаешь, «пятнадцать миллионов эров» выходит «пятнадцать миллионеров», понимаешь, и тогда текст поменяли, написали «пятнадцать миллионов молодых».
Керим сказал:
— Здорово ляпнули, — и повторил: — За десять лет взрастили мы пятнадцать миллионеров… Всех возрастов.
— Ахмед говорил, что наши эфенди давно утратили революционный дух. Дай-ка вспомнить, он даже подсчитывал это в процентах. На восемьдесят процентов, кажется…
— На восемьдесят ли процентов или на девяносто, не знаю, но Субхи и его команду они утопили, земельный вопрос так и не решили, боятся как огня, как бы рабочие не создали своих организаций. И что остается? Только сговориться с империализмом?
— Сговорятся, братец, вот увидишь.
— И что остается? То есть алфавит, шляпы, светские законы, отделение религии от государства — это у нас есть.
— В армии вновь заставляют читать Коран.
— Когда имам в мечети хвалил халифа, он был плохим, а сейчас он хвалит Народную партию. Ну, им это, конечно, на руку.
Надзиратель из дежурки крикнул в сторону коридора, куда выходили окошки «лож», — так, что вспугнул голубей в тюремном дворе:
— Измаил-уста! К тебе посетитель, Измаил-уста!
Измаил подумал о ком угодно, только не о Нериман.
— Нериман-ханым! Ей-богу, братец, удивлен!
— Вам привет от моего брата. Он не смог прийти. Уехал в Анкару по одному делу.
— Благодарю вас, ей-богу. А вы — более преданный друг, чем я. Я к вам смог только один раз зайти… Ей-богу, братец, вы даже представить не можете, как я вам рад… Тьфу ты, черт побери! — Он тут же вспомнил, что это «черт побери» постоянно говорил Ахмед. — Помилуйте, Нериман-ханым, привязалось к языку это чертово словечко «братец».
Посетителей и заключенных не очень много. Они смогли поговорить спокойно, без толкотни и крика. Измаил внезапно сказал:
— Те, кто к нам ходит, попадают на заметку к полиции.
— Пусть записывают… Я к политике отношения не имею…
Отдавая тем вечером лукум «Хаджи Бекир», принесенный Нериман, в «коммуну» — коммунисты в тюрьме создали «коммуну»: еда, напитки, сигареты и деньги — кому что приносили — сдавались в общий котел и делились между всеми, — так вот, отдавая тем вечером лукум «Хаджи Бекир» в «коммуну», Измаил так гордился, будто отдавал всем что-то такое, от чего все должны сойти с ума от радости.
На следующий день после того, как он вышел из тюрьмы Султанахмед, он поехал в Кадыкёй. Нериман не было дома. С Османом они пошли попить молочного киселя на Алты-йол. Осман сейчас работает маклером.
— Вы, наверное, стесняетесь дружить со мной, Осман-бей.
— С чего мне стесняться? — Осман-бей задумался. — Знаешь, не помню, когда это было, в двадцать четвертом или двадцать пятом, кажется, в Тепебаши, мы случайно столкнулись нос к носу с Ахмедом. Я сделал вид, что не узнал его, ушел. Тогда мы служили государству. В Сельскохозяйственном банке. А сейчас я кто? Сам себе хозяин.
Впервые Нериман с Измаилом поцеловались около бухты Каламыш. Тихо струится лунный свет.
Море — гладкое, как простыня. Где-то около Моды[41] Измаил взял напрокат лодку. Из ресторана «Каламыш» доносятся звуки джаза, там танцуют. А на воде множество лодок. Измаил приналег на весла, они двинулись в сторону Фенербахче. На Фенербахче маяк, то загорается, то гаснет. Мимо прошел сверкающий огнями пароход на Принцевы острова. «В какую гавань держит путь стомачтовый тот корабль?» Измаил бросил весла и перешел на корму, сел рядом с Нериман:
Ознакомительная версия.