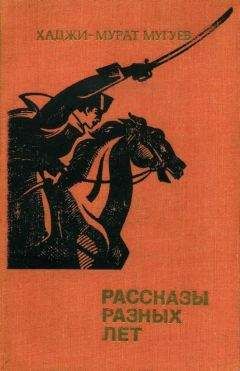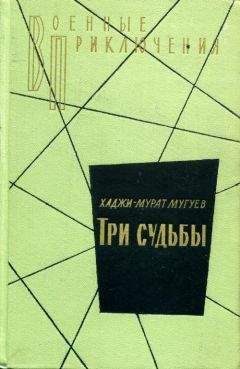Братья уткнулись в ремешок, узенький, в темных заклепках и узорах, вдобавок на нем болталось множество других ремешков-висюлек.
Колька примерил новинку, довольный, решил:
— Я на нем ложку буду носить… И еще что-нибудь…
Впору бы повесить для красоты ключи, украденные у Ильи, да ведь сопрут! Может, кукурузу? Вообразил:
Колька идет по томилинскому детдому, а на поясе у него, словно гранаты-лимонки, кочаны кукурузные висят! И папаха на затылке! Знай наших! С гор вернулись! Не оробели! Нажрались вволю да с собой привезли! По кочну отцепляет и шакалам отдает!
Но я знаю, мы встретимся снова,
И тогда, дорогая, вдвоем…
Регина Петровна легонечко подтолкнула братьев к дверям:
— Идите во двор петь!
Братья ушли.
Прикрыв дверь, она вернулась и снова пошарила в карманах пальто, собирая в ладонь табачные крошки. Набралось вместе с мусором немного. Из клочка газеты неумело свернула самокрутку, прикурила и вышла за дверь. Долго стояла на крылечке, приглядываясь к ребятам во дворе и стараясь среди них угадать Кузьменышей. Нацепив папаху, благо в подсобке их оказалось много, колонисты с палками гонялись друг за другом, изображая войну. А кто-то волочил за собой дырявую бурку, голые пятки мелькали из-под тяжелой полы.
Регина Петровна последний раз затянулась и ушла домой. Прилегла, попыталась спать, но не спалось. Несколько раз вставала, глядела в окно. Наконец хоть чем-то решила себя занять. Взяла ножницы и стала резать папаху на две равные части. Думала о Кузьменышах, о том, какие замечательно теплые шапки выйдут из этой папахи, и совсем забыла о времени. Она не заметила, как тихо, будто сама по себе откинулась створка окна и оттуда выглянуло черное дуло.
Три человека смотрели из темноты на ее руки, кромсающие на куски папаху…
В ребячьих спальнях ор продолжался допоздна. И крики, и визги, и беготня. Регина Петровна была права: колонистов накормили, и они ожили, известно, кормежка — праздник, да какой!
Оттого и разбузились: выли, пищали, блеяли, гавкали, мычали, лаяли и все в том же духе.
Кому-то пришло в голову: завопили песню. Не в лад, но громко.
Бродили мы с товарищем вдвоем,
Бродили мы с товарищем вдвоем.
Бродили мы с товарищем по диким по горам,
По диким по го-ра-ам!
Поначалу шло жидковато, кто во что горазд, но вот уж голос за голосом, ниточка к ниточке вплелись, встроились, сложились, и грянуло, окошки позванивали…
Вдруг камень покатился, ого-го!
Вдруг камень покатился, ого-ro!
Вдруг камень покатился и товарищ мой упал.
Товарищ мой у-па-л!
Особенно дружно выходило это: «Ого-го!» Тут уж ревели все, кто мог, и со слухом, и без слуха, реветь было приятно. Да и воздуха в легких хватало.
Я взял его за руку, ого-го!
Я взял его за ногу, ого-го!
Я за руку, я за ногу, товарищ не встает!
То-ва-рищ не вста-ет!
Я плюнул ему в рожу, ого-го!
Я плюнул ему в рожу, ого-го!
Я плюнул ему в рожу, он обратно не плюет,
Об-ра-тно не плюет!
Далее, как полагается, товарищу вырывают яму (ого-го какую!) и хоронят. А потом земля зашевелилась (ого-го!), и товарищ встает из нее и… «В рожу мне плюет!» Ответил, в общем. И сам — живой. Смешно! Закатились, хохотали…
Затянули тюремную: «Сижу в тоске и вспоминаю я, а слезы катятся из глаз моих…» Не допели. Слезы под такое настроение не подходили.
Заводили разухабистые уличные, блатные, рыночные (жалостливые), сиротские, инвалидные, лагерные, вокзальные и поездные, колонистские, сибирско-ссыльные, бытовые, одесские — воровские (жестоко-сентиментальные), хулиганские, каторжные (из дореволюционных) и некоторые из кино… Из «Большой жизни»: «Прощай, Маруська, блядовая…» По-настоящему-то надо «плитовая», но пели только так!
Но уж такой стройности не выходило. В каждом углу тянули свое, а вскоре и вовсе стихло.
Взрыв раздался под утро. Но было еще темно.
Кузьменыши проснулись одновременно. Обоим показалось, что на них упала бомба. Это было им знакомо по первым месяцам войны.
Во все окна полыхнуло зарево, окрасив стены в дрожащий кровавый свет. Было слышно, как внизу у девочек кто-то взвизгнул и закричал.
Сразу несколько голосов завопило:
— Горим! Горим!
Братья спали без матрацев и не раздевались, не то железная сетка отпечатается до самых ребер. Едва соображая, вместе со всеми в панике бросились к выходу. Двери отлетели. Задние подмяли передних, началась свалка. В темноте кому-то отдавили пальцы рук, разбили нос.
Кузьменышам повезло, их лишь чуть помяло.
Высыпали во двор и окунулись в голоса, в беготню, в яркий и жаркий свет, в какую-то зловеще-веселую панику.
Суеты было много, никто ничего не понимал, все бежали и все кричали. Стало видно, что горит дом, тот самый, где располагался склад.
Но первая мысль наших братьев была не о складе, конечно, о Регине Петровне с мужичками… Где она? Успела выскочить?
Пока опупело смотрели, соображали, а после крепкого сна соображалось туго, увидели и воспитательницу. Прижав к себе судорожно мужичков, она стояла посреди всей этой суетни, одна, такая застывшая, будто онемелая, в огромных глазах ее был страх.
— Регина Петровна! — закричали громко братья и бросились прямо к ней, с кем-то по дороге сталкиваясь, кого-то отпихивая, — Регина Петровна, мы тут! Мы тут!
Она лишь краем глаза зацепилась за кричавших ребят и, ничем не показав, что увидела или услышала их, вновь уставилась на огонь, пламя прыгало в ее расширенных зрачках.
Подскочил Петр Анисимович, крикнул неведомо кому:
— Где ведра? Несите ведра! Это ведь непонятно, что происходит! — И исчез.
Тут же появился снова, уже с ведром воды.
Закрываясь портфелем от огня, он направился к горящему дому, но близко подойти не смог и выплеснул воду наземь. Она тут же превратилась в пар.
Теперь, когда первый страх и чувство опасности прошли, ребятня, даже девочки, уже не вопили от испуга, а носились по двору радостно-возбужденные, ошалелые от такого невиданного зрелища! Им уже нравилось, что так горело!
Пламя возносилось вертикально вверх, как гигантская свеча, и гудело, рассыпая дождем крупные искры.
Дом светился изнутри, обнажился его каркас. В это мгновение он казался прозрачным, и каждую накаленную огнем балочку в его скелете можно было сейчас разглядеть.
Лишь несколько девочек, из самых боязливых, прибились, как к спасительному островку, к стоящей все так же неподвижно Регине Петровне.
Петр Анисимович, обращаясь к Регине Петровне, закричал:
— Вы видели? Что-нибудь видели?
Регина Петровна не обернулась к директору, будто не заметила его. Не сразу до нее дошло, что это к ней, к ней обращаются с вопросом.
— Что… Видела… — медленно, как во сне, произнесла она, не отрывая взгляда от огня.
— Я спрашиваю! — кричал Петр Анисимович и все отгораживался от пламени портфелем. — Вы видели, как взорвалось? Видели или нет? И потом это… На лошадях…
— На лошадях? — пробормотала Регина Петровна. — На каких лошадях?
— Это ведь непонятно, что происходит! — закричал Петр Анисимович, но осекся: только теперь дошло, что воспитательнице худо.
Подбежала другая воспитательница, Евгения Васильевна, сунула ватку с нашатырем к носу Регины Петровны, потерла ей виски, а та вдруг ахнула и стала оседать, запрокидывая голову.
Ее тут же увели в спальню девочек. Мужичков забрали туда еще раньше.
Кузьменыши, наблюдавшие все это, ринулись следом, на помощь своей Регине Петровне, но их дальше дверей не пустили.
— Идите, идите… — сказали. — Все тушат пожар, а вы чего тут шляетесь?
За дверью, слышно стало, кто-то плакал навзрыд, какая-то девочка, ее утешали.
— Ну, кто сказал, что лошади, — тускло произносил чей-то голос. — Ерунда… Честное слово, ерунда… Не было никаких лошадей и никаких гранат… Ну, что-то там взорвалось на складе… Там ведь керосин, и масло, и что угодно… Разве теперь узнаешь!
Братья посмотрели друг на друга и пошли во двор. Уже обвалилась крыша дома, подняв к небу салют из горящих углей, даже головешек. Искры медленно падали вниз и светлячками тлели в сухой траве. Никто не пытался их тушить. Даже Петр Анисимович, поняв, что соседним зданиям пожар не угрожает, притулился на крылечке столовой и так, прижав портфель к груди, сидел, глядя на огонь. Было что-то жалкое, беспомощное в его позе, будто говорившей: «Это ведь непонятно, что происходит!» За свою сорокалетнюю жизнь этот человек пережил множество катастроф, если и выживал, то благодаря природному долготерпению.
Когда он ушел с орсовской базы, сам ушел, ибо тащили вокруг все и вся, пахло тюрьмой, направили его в роно и там всучили детишек. На него смотрели как на человека конченого, ибо знали, какие уж там детишки — пятьсот головорезов худших из худших: тот, кто отсеивал, отделывался от самых отъявленных. И пока он готовил поезд, подыскивал воспитателей, выпрашивал продукты и одежду, сквозила в лицах районного начальства невысказанная мысль: не повезло Мешкову! Сгорел Мешков! А едет, потому что знает, хуже ему уже не будет… Некуда, как говорят!