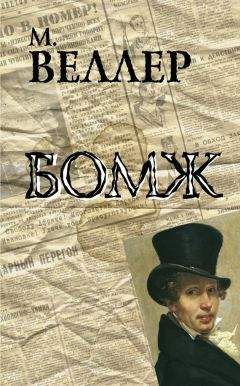Ознакомительная версия.
А что я скажу: что вообще-то имел мысль попробовать на зиму остаться, у них тут тепло и сытно, да вот понюхал эту добычливую и деловитую жизнь, и как-то расхотелось мне вливаться в коллектив…
— Возьми, — говорю, — Пугач, мелкий знак уважения от гостя. — И протягиваю ему швейцарский офицерский нож. Расшатан немного, одно лезвие сломано, но все же ничего. Без подарка не то отношение будет.
Он глянул небрежно и в карман своего полупальто спустил. У него такое очень старомодное полупальто, но хорошее, серое в елочку. Видно, у какой-то старушки от помершего мужа в нафталине лежало.
— Покушать хочешь?
— За хозяйским столом — не знаю, заслужил ли уважение.
Он такой подход любит. У него хибара — сбоку свалки под большим кленом. Фанера, жесть, брусья — все по уму скреплено. И места внутри много.
Пугач сделал знак своему денщику, Ваньке-Капкану. У Капкана пасть — две железные дуги, между зубами даже почти бороздок нет, стоматолог сделать поленился. Рот большой, а все остальное маленькое. Но шустрый.
Он поставил чайник на чугунную печурку, на стол открыл банку кильки и нарезал хлеб; кружки армейские, эмалированные. И бутылку водки. Может, там и не водка, но на вид — нормальная бутылка. Я даже сглотнул.
Пугач сел на железную кровать, а мне указал на стул:
— Я тебя уважаю, потому что ты круто стоял, с серьезным баблом за бугор свалить мог, а остался с народом. Вот поэтому я с тобой выпью.
Точно — настоящая водка! И стул нормальный, только качается — пол земляной.
— Да я не хотел напрашиваться, — говорю. — Так зашел, посмотреть просто, проведать.
— Я тебя уважаю, еще Пророка и Судью. Судью давно видел?
— Да говорят, он за станцией, за рембазой окопался. Но чтоб помер — не слыхал такого. Кочумает помаленьку. А видел… месяца полтора, наверно. Нормальный был.
Судья — он настоящий судья. Точно. Он был заместителем председателя районного суда. И впал в депрессию. Ни от чего. Кого, говорит, я сужу, кому срока паяю, я бы их долбаный кодекс им в зад-то вбил, чтоб горлом вышел. Убийце восемь лет — и пацану за драку восемь. Два года за курицу — а кражу завода хрен докажешь. А еще он в православие ударился, и все ад ему мерещился. Решил лечиться: из дурдома выполз почти овощем, а мысли у овоща прежние. Он в монахи попробовал устроиться — так выяснил, что отец настоятель при совке в КГБ стучал. Обиделся. Эть тоже новость. Ну и съехал немного.
— А то смотри, — предлагал Пугач. — У меня тут одиннадцать ребят, футбольная команда, не жалуются. Что получше я шоферам продаю, бульдозеристу, деньги есть. Свет, тепло — сам видишь. Хочешь — в общем бараке, хочешь — сам построй, но тогда без электричества.
Это да: они провода на столб накинули, лампочка под крышей на крючке, электрорадиатор, жить можно.
— Я не каждому предлагаю. Чужих мы гоним. На хрен сложности. Жмурик откроется очередной — а если чужой болтанет?
Его ребята принесли улов. Джинсы целые разложили, зимнее пальто с котиковым воротником, банку маринованных огурцов, пластиковый пакет нормального хлеба. Пугач отпустил их жестом. Они его все боятся. Правильно боятся. Я тоже его боюсь.
— Ну, выпил, закусил — счастливой дороги, — без предисловий велел Пугач. Хлебосольный хозяин попрощался, значит.
Я поблагодарил и двинулся. Края свалки терялись в сумерках. Она с километр в длину, наверно, и метров двести в ширину. Бомжи с мешками на горбах тянулись к своей обители. Сейчас жрать сядут, я Ванино варево в ведерной кастрюле пообонял.
Какая-то пародия на коммунистический колхоз, а не свободная жизнь. Вот сука, на самом дне — и тоже хватает тебя за шкварник мозолистая направляющая рука. Значит, они сами хотят так. В трудовой коллектив тянутся… уроды!
Ну что — время провел нормально. Пугач — знакомство полезное.
А в ухе он все же носит, дьявол, большую медную серьгу! Нарочно под цыгана косит, нравится ему такая вот стильность, и нарочно провоцирует, чтоб назвали — а тогда в рыло!
И нравилось ему, поганцу, что я все время глаза от этой серьги отвожу, не смею откровенно коситься. Какие удивительные формы имеет человеческое тщеславие.
Этот телефон на скамейке я воспринял как подарок судьбы.
Постоянно хочется что-нибудь украсть. А ведь не знаешь, с какого конца взяться.
Поживешь несколько лет нашей жизнью — и муки совести испарятся сами собой, бесследно. Украсть — это прекрасно. Сразу разбогатеть. Отдохнуть от нужды. Порадоваться жизни.
А что может украсть простой человек, кроме пропитания с помойки? Как собака, ей-богу.
Я часто думал, как я краду телефон. Он маленький, всем нужный, бывают дорогие, его красть удобно. Но я же не карманник, не умею. А так бы принес к Барсуку, уж рублей пятьсот-то он бы точно дал. А если новый, дорогой, айфон? Человек должен мечтать! Пока он мечтает — не все потеряно.
И вот я иду — и вижу на скамейке телефон. Скамейка зеленая, деревянная, ну, из этих длинных брусочков со щелями между ними. И как хорошо, думаю, что он в щель не провалился, я бы его там внизу на бурой земле мог не заметить. Он и сам такой буровато-серый. Цапнул я его, не останавливаясь, опустил в карман и иду спокойно дальше. На всякий случай. Если хозяин заметит пропажу и вернется как раз сейчас в поисках.
Но — это удача. Это удачный день.
Я отошел, перестраховываясь, кварталов шесть, пару раз свернув. Как шпион, самому неловко. А сам его в кармане щупал. Гладенький, ладненький, раскладушка. Не новая значит, модель, а и хрен с ней. Дареному коню в зубы не смотрят.
А может, его не Барсуку отдать, спруту-кровопийце, а с Ментом поговорить? Он часто со своими бывшими трется, может, лучше продаст? Нет, они так отбирают, если кого заметут.
Для спокойствия зашел под навес к мусорным бакам, там вещь в руках вопросов не вызовет, помойка помойка и есть, и стал глядеть. «Самсунг». Небогатый. Раскрыл — светится. Нажал клавишу, красную трубочку — кнопку отбоя, так понимаю. Он тилибомкнул приятно. Уютно так, дружески, будто знакомится. Нажал зеленую трубочку — вызова. Номера засветились.
Я не выдержал — набрал первые попавшиеся шесть цифр, начиная с тройки, как у нас большинство номеров начинается. Там — гудки. И — мужской голос — густой, мощный такой, с металлом:
— Слушаю. (Короткая пауза.) Говорите.
— Проверка связи, — говорю; и отключился.
И вот иду я в прекрасном настроении. Погода неплохая, можно и погулять, но ноги сами несут к Барсуку. Ладно, пятьсот не пятьсот, но уж меньше трехсот всяко дать не может. А это же кое-что! Куплю четвертинку магазинной водки, свежий батон, пару охотничьих колбасок, сигареты с фильтром, и еще куплю на рынке новые трусы и носки. Еще не забыть купить бульонных кубиков, они дешевые, а кипятком с огня разведешь — и заливаешь этим огненным бульоном любой накрошенный харч, получается вкусный сытный суп.
И тут в кармане тихонько, мило так: блям-ля-ля-лям! Телефончик мой звонит. Иду и думаю: брать не брать. Но срабатывает какой-то рефлекс, не то любопытство, не то подчинение, и берешь трубку. Остановился я, раскрыл телефончик свой, и вылетает из меня неожиданно, я сто лет забыл себя таким, будто в кожаном кресле сижу в директорском кабинете, уверенно так и жестко:
— Да.
А там женский голос, ровный, негромкий, немолодой, такой немного усталый, немного грустный, добрый, произносит:
— Ну здравствуй, сынок.
Я хочу сказать, что извините, вы ошиблись номером, но я не могу ничего сказать. Потому что это МАМИН ГОЛОС.
…Я в суеверном ужасе, в облачном его накате, произношу грубовато, соображать пытаюсь:
— Простите, вы кому звоните?
А МАМИН ГОЛОС, точно же мамин! — тихо, с грустью недоумевает:
— Я тебе звоню, сынок. Ты что, не узнал меня?
— Узнал… — говорю. А сознание у меня отплыло и висит в стороне от головы, как прозрачный туман.
— Как ты себя чувствуешь, сынок? — спрашивает МАМА. А я весь окаменел, я не знаю, что думать и что происходит. Потому что мама умерла уже давно, на зоне, одна, в лагерной больничке, никому не нужная, перестав принимать лекарства, потому что не хотела больше жить, кончились силы бороться, надежда кончилась, что доживет до освобождения, и поняла, что меня больше никогда не увидит. И я не был на ее похоронах, и не видел, как ее опускают в землю, и не знаю, где ее могила, и даже во сне все эти годы видел ее только два раза. И я живу с этим, и умру с этим, и несу свой смертный грех, и искупить его нельзя. Но я не верю в мистику, и сейчас мне страшно, и я боюсь с ней разговаривать, ОТТУДА не звонят. И я не знаю, что думать, пытаясь из подлого, позорного, презренного самосохранения цепляться за ошибку, совпадение, случайность.
— Вы откуда звоните? — спросил я, постыдно сознавая себя негодяем и предателем за это «вы», ужасаясь невозможности сказать «ты».
Ознакомительная версия.