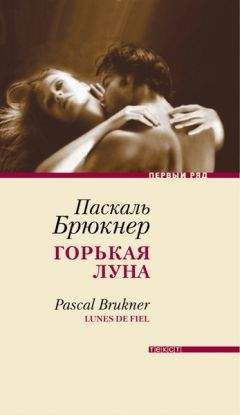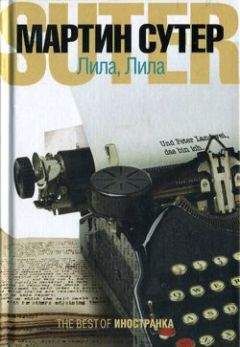— Дидье, я… я прошу вас не думать обо мне дурно.
Она произнесла эту фразу умоляющим тоном и взяла меня за руку, лицо у нее было растерянное. Сначала я подумал, что это очередной фарс, и решил немедленно распрощаться с ней.
— Я не хотела вчера издеваться над вами. Я смеялась, потому что нервничала. Не верьте тем ужасам, что рассказывает обо мне Франц. Он болен, вот и сочиняет басни, ему хочется, чтобы все признали его превосходство.
Она попыталась улыбнуться, но дрожь превратила эту улыбку в сдавленное рыдание. Я был раздражен, мне никак не удавалось сложить вместе образы, в которых эта девушка являлась передо мной, настолько они не вязались друг с другом.
— Мне нужно с вами повидаться, я дорожу вашим уважением.
— Дорожите моим уважением? — переспросил я с притворной холодностью, в надежде, что обмануть ее не удастся. — Уважением столь тусклой личности, как «Месье Неймется»?
— Да, дорожу. И довольно уже, больше я вас так не назову.
Я был крайне озадачен и хотел поддразнить ее, чтобы унять гулкое биение сердца. Меня сбивала с толку эта женщина, столь властная вчера и умоляющая сегодня. Я не мог разгадать ее намерений и говорил себе, что их, вероятно, попросту нет. И уже упрекал себя в том, что совершил грех недоверия, оказался наивен по излишней подозрительности. Виноват опять же был Франц с его экстравагантными выдумками — теперь я угадывал в нем склонность к преувеличению, если не к мифомании. Раскаяние Ребекки меняло все, это была всего лишь хрупкая девушка, которая пыталась спасти репутацию, пострадавшую от россказней бестактного мужа. Понизив голос, она сказала с лестной для меня непринужденностью:
— Дидье, мне хотелось бы поговорить с вами с глазу на глаз…
— Но мы же одни.
— Не здесь, в моей каюте.
Кровь хлынула мне в лицо, которое следовало бы укрыть в ладонях, ибо я предпринимал тяжкие усилия, чтобы примирить неловкость с желанием утаить ее. Ребекка подняла голову и пристально, страстно взглянула мне в глаза.
Сквозь полуоткрытые губы были видны ее очень белые зубы; молочный блеск этих жемчужин настолько потряс меня, что скрыть этого я не сумел.
— Зачем же в вашей каюте?
— Там нам будет спокойнее, я вам все объясню.
— Не сейчас, я не могу.
— Я знаю, приходите днем, в пять часов, номер семьсот пятьдесят восемь.
Я задохнулся от грубости этого предложения, и мне пришлось ухватиться за перила, чтобы сохранить равновесие. Свидание вывернуло меня, как перчатку; я мгновенно забыл гнев, обуревавший меня всего час назад. Думаю, я бы надолго застрял в холле, чтобы поразмыслить над приглашением, но Ребекка вернула меня к реальности.
— Поторопитесь, Дидье, вас ждет Беатриса. Полагаю, этот пуловер для нее, поскольку свой вы уже надели. До скорой встречи.
Я поднялся в столовую, словно озаренный светом. Энтузиазм мой был настолько велик, что я расцеловал Беатрису в присутствии Марчелло и заказал им обоим еще по одной чашечке кофе. Вместо благодарности Марчелло небрежно обронил:
— «Дающий, говорит Вивекананда, должен преклонить колени и возблагодарить того, кто принимает, ибо ему была предоставлена возможность дать».
У этого итальянца была заготовлена цитата на любой случай, смехотворная мания, которая в тот момент показалась мне верхом утонченного умения жить. Он по-прежнему рассказывал об Индии, но в голове моей настойчиво звучала лишь нежная музыка предстоящего свидания с Ребеккой. Подумать только, хватило одной минуты, чтобы моя опасливая сдержанность преобразилась в согласие! Каким образом этой женщине удалось всего за два дня обрести такое значение? Кто подарил мне новое чувство к ней, позволил по-новому воспринять ее? Странный случай: подобно соседям по лестничной клетке, впервые вступающим в разговор за десять тысяч километров от дома, мне пришлось отправиться в Азию, чтобы угодить в пьесу, с которой во Франции я никогда не сталкивался, — в водевиль! Разумеется, я не пойду в каюту Ребекки; нет, вместо этого я запрусь в своей и буду читать «Духовную революцию» Кришнамурти. Я уже упрекал себя за негаданное увлечение ею как за коварство и, чтобы прогнать мысли о ней, стал перебирать очаровательные качества Беатрисы и красоты, ожидавшие меня на Востоке. Я собирался отринуть жизнь, сулившую мне мгновения глубочайшего счастья, во имя… а, собственно, во имя чего?
Словно читая в моих мыслях, Беатриса призвала меня к порядку, сдвинув брови. Этот безмолвный выговор имел неожиданные последствия: я пришел в крайнее раздражение, и у меня внезапно возникло неприятное чувство, что все неуловимым, неосязаемым образом изменилось. Что мы вошли в новое созвездие, которое повлияет на наши отношения. И, перестав слушать Марчелло, я начал пристально разглядывать ее: никогда еще она не являлась передо мной в столь невыигрышном свете. Без макияжа изъяны тридцатилетней кожи бросались в глаза; свисавший на грудь кулон только подчеркивал ее жалкую худобу. Она уже не заботилась о том, чтобы нравиться, и выходила на люди в своем естественном виде: со светлыми растрепанными волосами и в мешковатом платье до пят она показалась мне напрочь лишенной той беспокойной, роскошной женственности, которая больше всего привлекала в Ребекке. Беатриса, женщина-девочка с недоразвитыми формами, взывала к безмятежной привязанности, к ласкам без изюминки, тогда как Ребекка неотступно преследовала меня непонятным мне самому искушением вечной и яростной любви. Я находил свою подругу слишком простой в сравнении с кошачьей гибкостью, более редкой красотой этой незнакомки. Почему бы и не признаться: Беатриса принадлежала к тем женщинам, которых сразу причисляют к умницам. Однако фантазия этого путешествия неизбежно брала верх над исходившим от нее впечатлением серьезности и разумности. Господи, до чего же она была разумна!
В полдень, стремясь избежать обеда в обществе Франца, я сыграл с ним славную шутку, которой горжусь по сию пору. Я пришел загодя вместе с Беатрисой и выбрал столик, где осталось только два свободных места. Кроме Раджа Тавари, всегда пунктуального в вопросах еды, там были еще три студента — двое турок и один иранец. На ломаном английском мы обсуждали ближайшую стоянку в Афинах, ожидаемый ночью шторм, празднование Нового года завтра вечером. Национальные различия дискуссию не омрачили, и сферу политики — особо щекотливую после иранских дел — никто из нас ни разу не затронул. Радуясь, что под этот словесный шелест можно без помех размышлять о послеполуденном свидании, я расслабленно предался течению призрачного, приятного, необременительного разговора. Когда появился Франц (его вез матрос, и уже издалека мне резанул слух знакомый ужасный скрип колес, напоминавший погремушку прокаженного), я заканчивал десерт. Он сновал вокруг нашего стола, как муха над падалью, в безнадежных поисках щели, куда мог бы протиснуться в своем кресле, с которым составлял одно гримасничающее целое.
— Вот что, — сказал я, поднявшись, — уступаю вам место.
— Вы уже уходите? Я умирал от желания поболтать с вами!
— Слишком поздно, Франц, вы позволите мне называть вас по имени? Я уже поел. Придется вам найти другую жертву.
— Что это означает? Я полагал, мы приятели.
— Приятели! Думаю, это слишком слабое определение, скажите уж, что лучших друзей не бывало со времен Кастора и Полидевка.
— Зачем вы обмениваетесь сарказмами? — вмешалась Беатриса.
Франц уже обрел свою скверную улыбку.
— Дидье слегка нервничает, поскольку знает, что я нахожусь между вами, когда меня там нет.
Я пожал плечами. Но реплика Тивари — он спросил Франца, как чувствует себя Ребекка, — разом испортила мне настроение. Я вдруг осознал, что никто за этим столом не глядел на Беатрису и даже не делал ей комплиментов. И пока я шел к двери, мне казалось, что все недобро судачат о ней, а на меня смотрят с плохо скрываемой жалостью. Разумеется, мы выглядели как простоватая парочка в джинсах, которая изо всех сил пыжится, чтобы люди поверили, будто у нее большой опыт жизни в тропиках.
— У тебя с Францем занятные отношения, — сказала мне Беатриса.
— Этот тип страшно меня раздражает… Я нарочно выбрал самый занятый столик, чтобы избежать его гримас и намеков.
— Ты быстро обижаешься. Кстати, я так и не услышала рассказ о вчерашнем вечере.
— Это было гнусно.
В двух словах я передал ей исповедь калеки, всячески стараясь не щадить его жену. Но сам помышлял только о свидании в пять часов — единственном радостном событии этого дня.
Тут вновь проявилась моя раздвоенность. С одной стороны, я хотел избавиться от пытки слушать и видеть Франца. С другой, меня влекло к Ребекке. Я счел, что этим свиданием сумею все уладить — получу жену и отделаюсь от мужа. Оставалась Беатриса. Ей мне придется лгать. Но, будучи неофитом в этой области, я боялся допустить промах. Я колебался, долго взвешивал, во что обойдется мне разоблачение. Наш союз покоился на невысказанных условиях, закрепленных временем и столь же суровых, как статьи брачного договора. Конечно, ложь всегда вызывает порицание, и за нее мне не поздоровится; но, в сущности, это будет первая моя «измена» — я специально употребляю это устаревшее слово, — так что особо тревожиться не стоило. И еще я надеялся, что при некоторой ловкости сумею сохранить в тайне свою мимолетную связь. В конце концов, до Стамбула оставалось всего двое суток — тем самым риск, что дело раскроется, сводился к минимуму.