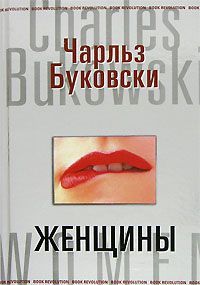Потом мы заснули. Вернее, Кэтрин заснула. Я обнимал ее сзади. Впервые я подумал о женитьбе. Я знал, что, конечно, где-то в ней есть недостатки, их пока не видно. Начало отношений – всегда самое легкое. Уже после начинают спадать покровы, и это никогда не кончается. И все же – я думал о женитьбе. Я думал о доме, о кошке с собакой, о походах за покупками в супермаркеты. У Генри Чинаски ехала крыша. И ему было до балды.
Наконец я уснул. Когда я проснулся утром, Кэтрин сидела на краю кровати, расчесывая ярды рыже-каштановых волос. Ее большие темные глаза смотрели на меня, когда я проснулся.
– Привет, Кэтрин, – сказал я, – ты выйдешь за меня?
– Не надо, пожалуйста, – ответила она, – я этого не люблю.
– Я серьезно.
– Да ну тебя на хер, Хэнк!
– Что?
– Я сказала «на хер», и, если ты будешь продолжать в том же духе, я сажусь на первый же самолет домой.
– Ладно.
– Хэнк? – Ну?
Я взглянул на Кэтрин. Она продолжала расчесываться. Ее большие карие глаза были устремлены на меня, и она улыбалась. Она сказала:
– Это просто секс, Хэнк, просто секс!
И рассмеялась. Смех не был язвительным, он был радостным. Она расчесывала волосы, а я обхватил ее рукой за талию и ткнулся головой ей в бедро. Я уже ни в чем не был уверен.
Я брал с собой женщин либо на бокс, либо на бега. В тот четверг вечером я взял Кэтрин на бокс в спортзал «Олимпик». Она никогда не видела живого боя. Мы приехали еще до первой схватки и сели у самого ринга. Я пил пиво, курил и ждал.
– Странно, – заметил я. – Люди приходят сюда, садятся и ждут, когда два человека вскарабкаются на ринг и будут себя не помня вышибать друг другу мозги.
– И впрямь ужас.
– Этот зал построили давно, – рассказывал я, пока она разглядывала древнюю арену. – Здесь только две уборные, одна для мужчин, другая для женщин, и обе очень маленькие. Поэтому сходи либо до, либо после перерыва.
– Ладно.
В «Олимпик» ходили в основном латиносы и белые работяги из низших слоев, да несколько кинозвезд и знаменитостей. Много хороших мексиканских боксеров, и дрались они всем сердцем. Плохими были только бои, когда встречались белые или черные, особенно тяжеловесы.
Сидеть там с Кэтрин было странно. Человеческие отношения вообще странны. Я имею в виду, вот ты некоторое время – с одним человеком, ешь с ним, и спишь, и живешь, любишь его, разговариваешь, ходишь везде, а затем это прекращается. Наступает короткий период, когда ты ни с кем, потом приезжает другая женщина, и ты ешь теперь с ней, и ебешь ее, и все это вроде бы так нормально, словно только ее и ждал, а она ждала тебя. Мне всегда не по себе в одиночестве; иногда бывает хорошо, а по себе – ни разу.
Первый поединок был неплох, много крови и мужества. Глядя бокс или ходя на скачки, можно кое-чему научиться – как писать, например. Урок неясен, но мне помогало. Вот что самое важное: урок неясен. Слов тут нет – как в горящем доме, или в землетрясении, или в наводнении, или в женщине, которая выходит из машины и показывает ноги. Не знаю, чего требуется другим писателям: наплевать, я все равно их читать не могу. Я заперт в собственных привычках, собственных предубеждениях. Вовсе неплохо быть тупым, если невежество – твое личное. Я знал, что настанет день и я напишу про Кэтрин, и это будет тяжело. Легко писать о блядях, но писать о хорошей женщине несоизмеримо трудней.
Второй бой тоже был ничего. Толпа вопила, ревела и накачивалась пивом. Они временно сбежали со своих фабрик, складов, боен, автомоек – в плен вернутся на следующий день, а пока они на свободе – они одичали от свободы. Они не думали о рабстве нищеты. Или о рабстве пособий и талонов на еду. С прочими нами все будет в норме, пока бедняки не научатся мастерить атомные бомбы у себя в подвалах.
Все схватки были хороши. Я встал и сходил в уборную. Когда я вернулся, Кэтрин сидела очень тихо. Ей пристало бы посещать балет или концерты. Она выглядела такой хрупкой, однако ебаться с ней великолепно.
Я пил себе дальше, а Кэтрин хватала меня за руку, когда драка становилась особенно жестокой. Толпа обожала нокауты. Она орала, когда кого-нибудь из боксеров вырубали. Били ведь они сами. Может, тем самым лупили своих боссов или жен. Кто знает? Кому какое дело? Еще пива.
Я предложил Кэтрин уехать до начала последнего боя. Мне уже хватило.
– Ладно, – ответила она.
Мы поднялись по узкому проходу, воздух был сиз от дыма. Ни свиста нам вслед, ни непристойных жестов. Моя битая харя, вся в шрамах, иногда помогала.
Мы дошли до малюсенькой стоянки под эстакадой шоссе. Синего «фольксвагена» 67-го года на ней не было. Модель 67-го года – последний хороший «фольк», и весь молодняк это знает.
– Хепберн, у нас спиздили машину!
– О, Хэнк, не может быть!
– Ее нет. Она стояла вот тут. – Я ткнул пальцем. – Теперь ее нет.
– Что же нам делать?
– Возьмем такси. Мне очень погано.
– Ну почему люди так поступают?
– Они без этого не могут. Для них это выход.
Мы зашли в кофейню, и я вызвал по телефону такси. Мы заказали кофе и пончики. Пока мы смотрели бокс, нам подстроили трюк с вешалкой – закоротили провод. У меня была поговорка: «Забирайте мою женщину, но машину оставьте в покое». Я б никогда не стал убивать человека, уведшего от меня тетку; но того, кто угнал машину, убил бы на месте.
Пришло такси. Дома, к счастью, нашлось пиво и сколько-то водки. Я уже оставил всякую надежду на трезвость для любви. Кэтрин это понимала. Я мерил шагами комнату взад и вперед, говоря только о своем синем «фольксвагене» 67-го года. Последняя хорошая модель. Я даже в полицию позвонить не мог – слишком пьян. Придется ждать до утра, до полудня.
– Хепберн, – сказал я, – это не ты виновата, ты ведь ее не крала!
– Уж лучше б я ее украла – она бы к тебе уже вернулась.
Я подумал о паре-тройке пацанов, рассекающих на моей синей малютке по Прибрежной трассе: курят дурь, хохочут, потрошат ее. Потом – о свалках вдоль авеню Санта-Фе. Горы бамперов, ветровых стекол, дверных ручек, моторчиков от дворников, частей двигателя, шин, колес, капотов, домкратов, мягких сидений, передних подшипников, тормозных башмаков, радиоприемников, пистонов, клапанов, карбюраторов, кривошипов, осей, трансмиссий – моя машина скоро станет кучей запчастей.
Той ночью я спал, прижавшись к Кэтрин, но на сердце у меня было печально и холодно.
К счастью, машина была застрахована, хватило как раз на прокат другой. В ней я повез Кэтрин на бега. Мы сидели на солнечной террасе Голливуд-парка, у поворота. Кэтрин сказала, что ставить ей не хочется, но я завел ее внутрь и показал доску тотализатора и окошечки для ставок.
Я поставил 5 на победителя на 7-ю, причем на 2 ранних рывка – моя любимая лошадь. Я всегда прикидывал: если суждено проиграть, лучше это сделать вперед; заезд выигрывался, пока тебя никто не побил. Лошади пошли вровень, отрываясь лишь в самом конце. Это оплачивалось $9,40, и я на $17,50 опережал.
В следующем заезде Кэтрин осталась сидеть, а я пошел ставить. Когда я вернулся, она показала на человека двумя рядами ниже.
– Видишь вон того?
– Ну.
– Он сказал мне, что вчера выиграл две тысячи и что на двадцать пять тысяч опережает по сезону.
– Сама не хочешь поставить? Может, мы все выиграем.
– О нет, я в этом ничего не понимаю.
– Тут все просто: даешь им доллар, а тебе возвращают восемьдесят четыре цента. Это называется «взятка». Штат с ипподромом делят ее примерно поровну. Им наплевать, кто выигрывает заезд, их взятка берется из общего котла.
Во втором заезде моя лошадь, 8-я с 5-ю на фаворита, пришла второй. Неожиданный дальнобойщик подрезал ее у самой проволоки. Платили $45,80.
Человек в двух рядах от нас повернулся и посмотрел на Кэтрин.
– У меня она была, – сказал о ней, – у меня была десятка на носу.
– У-у-у, – ответила ему Кэтрин, улыбаясь, – это хорошо.
Я обратился к третьему заезду, для ни разу не выводившихся 2-леток среди жеребцов и меринов. За 5 минут до столба проверил тотализатор и пошел ставить. Уходя, я видел, как человек в двух рядах от нас повернулся и заговорил с Кэтрин. Каждый день на ипподроме тусовалась по меньшей мере дюжина таких, кто рассказывал привлекательным женщинам, какие великие они победители, – в надежде, что неким образом все у них закончится постелью. А может, они так далеко и не загадывали; может, они лишь смутно надеялись на что-то, не вполне уверенные, что это будет. Помешаны и заморочены по всем счетам. Разве можно их ненавидеть? Великие победители, но, если понаблюдать, как они ставят, видно их обычно только у 2-долларового окна, каблуки стерты, одежда грязна. Отребье рода человеческого.
Я взял четного на деньги, и он выиграл на 6 и оплачивался 4,00 долларами. Не густо, но десятка была на победителя. Человек повернулся и посмотрел на Кэтрин.