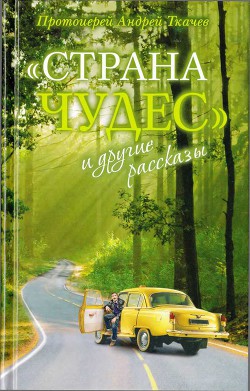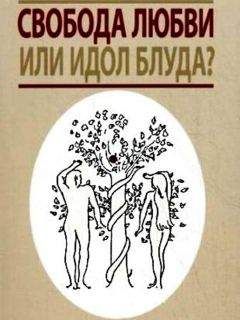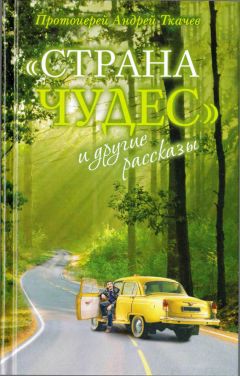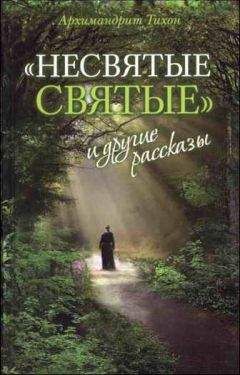Две главы читались минут десять. За это время на глаза священнику раз или два наворачивались слезы, но он откашливался и продолжал читать без эмоций. Когда дошли до утра нового дня, то прочли только про Магдалину. И так все было ясно. Все опять было ясно — Он воскрес. «Иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему».
На этих словах священник сказал «аминь», поцеловал лист и закрыл книгу. Потом он не спеша, но с опаской повернулся и посмотрел на больного. Тот был внимательно собран, лежал с открытыми глазами, и в глазах стояли слезы. Несколько слезинок стекли на подушку и оставили на наволочке маленькое пятно. Одна слеза стекла было по щеке, но задержалась в седой щетине. Не меняя положения тела, больной стал что-то шептать. Священник приблизил ухо к его устам и услышал очень тихое и очень слабое: «Спасибо вам».
* * *
Причастие было на следующий день. А вскоре после причастия было и отпевание.
Еще одна душа переступила грозную границу между мирами и начала свое собственное и неповторимое загробное существование. Свой прах, измученный и истощенный болезнью, душа оставила на малое время родным для оплакивания, а потом этот прах вернут праху до дня всеобщего воскресения. Во все это за свою жизнь священник вовлечен так часто, что большого набора альтернатив у него нет. Протоптаны лишь два пути: очерстветь окончательно или стать святым.
Человек же, не желающий черстветь, но и к святости не чувствующий решительного позыва, должен чем-то утешаться в своем зависшем состоянии. Лучше, если книгами.
Существование книг есть одно из доказательств человеческого бессмертия, а возможность найти себя или свою жизненную ситуацию на страницах чужого труда и вовсе сродни волшебству. В тот день, когда священник преподал больному причастие и ушел, как хорошо было бы, чтобы больной чувствовал себя так же, как чеховский архиерей. И тот и другой были большими и значимыми. Но потом вдруг стали маленькими и беспомощными. Но когда уже все смотрели на них, утирая глаза и разговаривая шепотом, они внутри себя обрели новый простор и иную свободу.
У Чехова так и сказано: «Он уже не мог выговорить ни слова, ничего не понимал, и представлялось ему, что он, уже простой, обыкновенный человек, идет по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти куда угодно!»
У меня умер друг
Ты спрашиваешь, почему я грущу? А когда ты видел меня веселым?
Понимаешь, у меня умер друг. Я и не думал, что он мне так дорог. А вот позвонил ему, а детский голос отвечает: «Папа умер». Я где стоял, там и сел и заплакал. Валера умер! Не могу представить его бездвижным. Не могу представить гранитный памятник с его фотографией, на которой он улыбается.
Он был доктор. И в этом тоже есть какая-то доля издевательства. Он был хороший доктор, грамотный, внимательный, серьезный. Но доктора тоже умирают, а священники тоже грешат. Разве это не ужас? А ты все спрашиваешь, отчего я грущу.
Гепатит залез в его печень давно. Он рассказывал мне, что в болезнях много мистики. Вирусы ведут себя не просто как живые, а как живые и умные. Они приспосабливаются к лекарствам, изменяются, затаиваются. Они могут делать вид, что уже умерли, что побеждены, и человек успокаивается, начинает беспечно радоваться, нарушать режим... Потом болезнь вспыхивает вновь, но на этот раз очаги поражения глубже и опаснее, а старые лекарства уже не действуют. У Валеры был именно такой случай.
После первой опасной вспышки, когда специалисты говорили о двух-трех оставшихся годах, он прожил еще десять лет. В этот период мы и познакомились.
На его месте можно было по-христиански вымаливать у Бога или, как делают многие, по-язычески ждать от безликого Космоса подачки в виде продления срока. Можно было истратить все деньги на новые лекарства. А можно, сколько Бог пошлет, жить полной и красивой жизнью, радуясь каждому дню и тем более каждому прожитому году. Они с женой сумели заново влюбиться друг в друга и были так взаимно нежны и внимательны, что многие, быть может, им завидовали.

Валера на пару лет поехал в Ливан, в миротворческий контингент. Заработанных денег, плюс сбережения, хватило, чтобы улучшить жилищные условия. Слишком долго они с женой и двумя детьми мыкались по коммуналкам и съемным квартирам. Когда мы освящали эту новую квартиру, Валера сказал: «Ну вот, за это уже сердце не болит». Последние несколько лет он часто повторял эту или подобную фразу: «Уже сердце спокойно», «Об этом я не переживаю». Он говорил так, когда старший сын стал работать и к тому же познакомился с хорошей девочкой. Когда жена научилась водить машину. Когда удалось реорганизовать терапевтическую службу в округе. Время шло и постепенно его убивало. Печень уже не могла хорошо очищать кровь. Но, запрограммированная на честное исполнение своей работы, она и пропускать ее не очищенную не могла. Началась внутренняя интоксикация. Он мог бы вести дневник и, как доктор, фиксировать постепенное угасание своего организма. Но он стремился реализовать себя, воплотить мечты, обеспечить семью. И он продолжал быть собранным и серьезным на работе, веселым среди друзей.
Ты спрашиваешь, почему я улыбаюсь? Знал бы ты, как он умирал. Это была оптимистическая трагедия. Когда его на пешеходном переходе внезапно сбила машина и все разрушительные процессы в организме резко усилились, Валера и его жена поняли, что он вышел на финишную прямую. Они стали готовиться к расставанию с мужеством самурая, делающего с утра прическу и готового к вечеру умереть. За сорок семь дней от аварии до смерти они прожили вместе еще одну жизнь.
В больнице, где его знали все и он знал каждую трещинку на стенах, отбоя не было от посетителей. Целый театр лиц прошел перед их глазами: робких, искренних, испуганных, участливых. Он говорил со всеми, даже консультировал больных и давал советы коллегам. Только жену все время держал за руки и скучал но ней, даже когда она отлучалась на полчаса за минералкой или лекарством.

В тот самый важный день, который еще называют последним, к нему в очередной раз пришел священник. Валера недавно причащался, а сейчас уже был без памяти. Поэтому его соборовали. Все, что он сказал в тот день, — это фраза, обращенная утром к зареванной медсестре, менявшей капельницу. «Вы очень красивы сегодня», — сказал он ей. Потом он ничего не говорил и казался глубоко уснувшим. Но священник, совершавший соборование, обладал зычным басом. Совершив Таинство, он громко произнес отпуст и этим, кажется, пробудил больного. Валера узнал священника. «Батюшка, благословите». — «Бог благословит». — Священник широко перекрестил
Валеру и положил ладонь ему на голову. Валера слабо, но очень тепло улыбнулся и закрыл глаза.
Священник снял облачение, сложил его в чемоданчик и успел дойти до двери, когда Валерина душа покинула вначале тело, затем больничную палату, а затем и вообще эту печальную землю.
* * *
Я вспоминаю о Валере, думаю о его смерти и радуюсь. Но эта радость не мешает мне ронять слезу, когда я представлю себе гранитный могильный памятник с фотографией, на которой Валера улыбается. Ты спрашиваешь, как это может быть? Как могут уживаться вместе и улыбка, и слезы? А по-моему, только та радость и есть настоящая, которая не мешает плакать. И только те слезы правильны, сквозь которые можно улыбнуться.
Не каждый может быть садовником