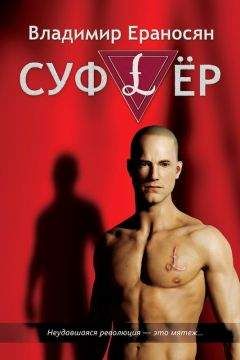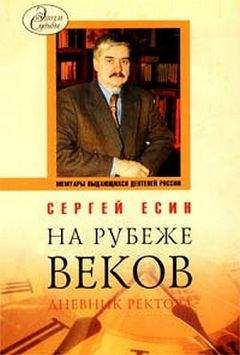Сначала в дом Милягиных втерся я, потом Эдька Перлин, умница, шахматист и скептик, потом пришли друзья из Витькиного класса: Юра Шмелев, Гарик Опенченко и Костя Тихоненко, житель высотного здания.
Появлялось много других ребят, но они как-то не выдерживали высокого и светлого духа компании, а эти остались, видимо, потому, что тоже разглядели темные, почти черного цвета глаза за стеклами очков. К этому времени мои бесконечные перемены школ превратили меня в окончательного двоечника, да и жить не становилось с каждым днем легче, и пришлось подрабатывать: разносить газеты по утрам, клеить бумажные цветы, заворачивать в целлофан этикетки — прибыток, исходивший от какой-то надомницы-маклерши… Из-за всего этого я перешел в школу рабочей молодежи. Но мама все равно в меня верила, да и я верил в себя.
Но как трудно было эту веру отстаивать в моей компании!
Как восхищался я своими новыми друзьями и как им завидовал… Завидовал их здоровым семьям, тому, как многое они успели узнать, их занятиям спортом. Я смотрел на них, и каждый мне казался гением, способным украсить этот мир. Витя к восьмому классу завоевал первое место на московской олимпиаде по математике У Эдьки Перлина уже было авторское свидетельство по каким-то радиоделам, крепыш Юра Шмелев был перворазрядником по гимнастике, Гарик Опенченко, кроме немецкого, учил «для себя» еще и английский язык, а Костя Тихоненко, высокий, чуть угрюмый парень, был просто взрослым. Я завидовал его большим рукам с черными волосами на запястьях и тому, как он небрежно, не глядя, мог перебирать струны гитары. Что я мог противопоставить этим ребятам?
К Виктору все сбегались часов около семи. Никто никого не организовывал, и хозяин никого не занимал. Кто-то сразу вис на телефоне, кто-то читал, кто-то ловил зарубежную станцию на довоенном приемнике. Костя пощипывал у гитары струны.
Через часок появлялась Зойка, вооруженная цитатами из Достоевского. Она любила быть в центре внимания. Все тесно усаживались на маленьком диванчике с высокой кожаной спинкой и круглыми откидными валиками.
Какие прекрасные мгновения духа! Мы почти никогда не ходили вместе в походы, не сидели с обалдевшими рожами среди незнакомых чужих родственников на днях рождения друг у друга, но эти минуты на диванчике давали нам с избытком ощущение полного доверия, честности и счастья.
Я затрудняюсь рассказать, о чем же было переговорено. Обо всем, что успел узнать пятнадцати-, шестнадцатилетний ум и схватить цепкая и жадная память. Все вместе мы умудрялись пропустить через наши «семинары» даже те проблемы, о которых наши сверстники вряд ли имели представление. Мы говорили о Достоевском, с Фрейде, о Винере, о художниках-абстракционистах, о художниках-реалистах, о романе Дудинцева «Не хлебом единым», о стихах Ахматовой, которые осуждались, но при этом читались наизусть. Какая-то прелестная чертовщина царила в этих разговорах. Мы с остервенением бились за выводы, которые тут же оказывались никому не нужными, и победитель в споре говорил побежденному: «Ты знаешь, я, кажется, был не прав». Мы все любили друг друга и доверяли друг другу. У каждого из нас в семьях произошли таинственные истории, но они духовно не коснулись нас. Мы верили в символы и слова, о которых нам говорили в детстве, и чувствовали себя чистыми, а значит, и невиновными.
Мне было труднее всех в этой компании. За каждым стояли общепризнанные результаты, победы и достижения. Каждый мог бросить на стол эквивалент своего социального авторитета. Виктор свои грамоты, Юрка свой значок перворазрядника, Гарик мог тут же перевести статью из «Дейли уоркер», Костя меланхолически перебирать струны, жить в пятикомнатной квартире в высотном здании и никогда не говорить о своем отце, известном авиаконструкторе и лауреате многих премий — мы и так об этом знали. Чем мог я отплатить своим друзьям?
Изредка я отдавал им на растерзание какое-нибудь стихотворение.
Я выбирал конец вечера, когда споры уже утихали, и доставал из кармашка курточки лист бумаги с написанным стихом. Что-нибудь близкое нашим сегодняшним настроениям, с узнаваемыми деталями.
Ребята по своему складу были техниками, не гуманитариями и поэтому все, что связано со словом, воспринимали трепетно, как чудо.
Иногда я творил для них импровизацию. Это несложно, если делаешь заинтересованно, по-настоящему. Ты настраиваешься как бы на определенный транс и бросаешь в воздух слова, связанные общей идеей. Главное здесь идея. Если, начиная импровизацию, ты знаешь, чем она закончится, веди себя смело. Мне это всегда было несложно.
Я читал свои импровизации обычно под конец вечера. Меня хвалили. Татьяна уходила за перегородку ставить чайник. Потом за перегородку уходил Костя Тихоненко, помогать Татьяне. В комнате мы продолжали спорить о наших проблемах, а из-за перегородки доносились позвякивание чашек и рокоток Костиного баска. О чем они с Татьяной всегда так долго и таинственно говорили? Но тогда мы не могли и подумать, что Татьяна, которая всех нас моложе, давно старше нас. Мы и представить не могли, что у них вдвоем есть какие-то более глубокие и серьезные разговоры. Кто же мог знать, что сжигающий Костин взгляд означал боль не юношеской влюбленности, а любовь. Любовь до последнего предела…
Потом мы все пили чай, и после чаепития Татьяна пела. Это был первый замечательный женский голос, услышанный мною не по радио.
То было время безоговорочного царствования на волнах эфира песенки Герцога, арии Жермона, каватины Розины, арии Ленского, полонеза Огинского, хора «Славься» и полонеза из «Ивана Сусанина». Прекрасные, но привычные места мировой культуры. Изредка в этот традиционный набор вклинивался дивный густой голос Надежды Андреевны Обуховой, и тут мы что-то узнавали не только о герцогских, но и о наших сердцах. А наши юные сердца так страдали от невысказанного, так ждали простых и теплых слов о наших жизнях, чтобы, вкладывая в песни свое значение и свою боль, объясниться с любимыми и с сегодняшним миром.
Татьяна брала у Кости гитару, закидывала ногу на ногу и, глядя ему в глаза, начинала «Калитку».
«Лишь только вечер опустится синий…» Ее низкий, бесконечно женственный голос будто бы обращался к каждому из нас. Но Татьяна знала, на ком пытать свою силу. Пела она всегда Косте.
Что же произошло потом у них? Может быть, Костя был с нею груб однажды? Или сделал ей предложение и она отказала? Или Татьяна сказала, что не полюбит его никогда? Мы так и не узнали. Но однажды летом услышали трагическую весть: Костя Тихоненко застрелился из охотничьего ружья. Дома. В высотном здании.
После этого целый год Татьяна не пела.
…Мама заболела перед моим отъездом в Америку в командировку. Сначала у нее был грипп, воспаление легких. Через день я заезжал к ней, ходил в магазин, заезжали жена, брат. Потом дело пошло на поправку, мама стала выходить, и в поликлинике ее послали на рентген.
Я проплакал всю ночь, когда привез домой ее большие снимки. Так случилось, что накануне проездом в санаторий у нее остановился племянник из Владивостока. Он посмотрел снимки и первым сказал: «Плохо». До этого все врачи оставляли мне надежду: атеросклероз. Маленькое беленькое пятнышко почти посредине снимка. Его можно было закрыть десятикопеечной монетой.
— Готовься к самому тяжелому, Дима, — говорил мне двоюродный брат, — если это центральный рак, он неоперабельный, не поддается химиотерапии. Будь мужественным…
— Но, помилуй бог, Слава, — говорил я, в своей аргументации пытаясь связать трагический жребий болезни с логикой, — помилуй бог, откуда у нее взяться раку? Ты знаешь маму, за всю жизнь она не выпила и двух рюмок вина, не выкурила и одной сигареты. У нас ни у кого в роду рака не было. Ну ни у кого. Посмотри, Слава, на снимки еще раз, все-таки это атеросклероз. Ты же все знаешь о маме. Посмотри на косвенные признаки, симптомы, анамнез. Было воспаление легких, два за зиму, образовалась спайка, склера. Будь логичен.
— Это очень похоже на склеру, Дима. Я вижу у тебя на столе и справочник практического врача, и популярную медицинскую энциклопедию. Ты хорошо, Дима, ко всему подготовился. Я тоже надеюсь, что это атеросклероз, но, думаю, это рак.
Я плакал всю ночь. Слава лежал на раскладушке в большой комнате, а я на диване. Мы погасили свет. Сознание судорожно прокручивало аргументы, подтасовывая желаемое решение: ну, есть слабость, ну, есть на рентгеновском снимке пятнышко неясной этиологии, но ведь мама ест мясо, черный хлеб, все делает по хозяйству — при раке у больного, говорят, бывает отвращение к мясу. Я вспоминал болезни всех родственников, линии наследственности маминых братьев и сестер. Все были сердечники, гипертоники.
Изредка за стеной у соседей слышался бой часов. Слава окликал меня: