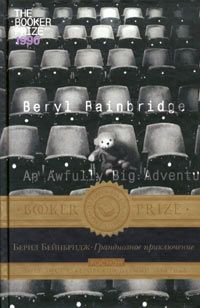Ознакомительная версия.
— Нет, — сказал он. — Боюсь, что не получил. Я тогда, наверно, уже переехал.
— А-а, ну да, — сказала она. — А то бы ты ответил. Он не спорил. Нет ничего уютней уколов мертвой любви, если оба признают ее мертвость, а у Дотти к тому же явно были шуры-муры с Фэрчайлдом. У того наблюдалось под глазом некоторое пятно, и О'Хара невольно грешил на Дотти.
Он узнал, что девчушку зовут Стелла, и постарался ее разговорить. Она зорко глянула на него и сказала, что мистер Фэрчайлд очень хороший человек, правда-правда, и мисс Бланделл тоже. Мисс Бланделл к ней особенно хорошо отнеслась.
— Хорошо, когда люди хорошие, верно? — сказал он, но она отрезала:
— Я другие слова тоже знаю, но не всем угодно их выслушивать.
Кого-то она ему напоминала, или, может, он уже встречал ее раньше.
— Едва ли, — растолковал ему Фредди Рейналд. — Ты давненько не заглядывал в эти края, а она, по всей вероятности, в жизни не заезжала дальше Блэкпула.
* * *
Первая репетиция в костюмах заняла всю субботу. Бонни предусмотрительно проработал еще в четверг полеты и осветительную часть, и задержки были теперь только из-за строительных накладок: палуба „Веселого Роджера“ грозно раскачивалась во время битвы пиратов с пропащими мальчиками, тиканье крокодила оказалось не слышно уже из четвертого ряда. Когда Крюк наедине сам с собой бормотал: „Как тиха ночь, ничто не шелохнется… тысяча чертей, пришел мой час“, — мачта зловеще скрипнула и чуть не повалилась на задник.
Тем не менее актеры, успевавшие улизнуть между выходами в зал, возвращались в восторге. Джон Харбор провозгласил, что спектакль — абсолютное чудо. Пропущенные реплики, смазанные жесты, дурацкие курбеты девиц Тигровой Лилии — все чепуха совершеннейшая на фоне леденящей властности Крюка и этой бесподобно важной походки Питера, неземного и все же реального в исполнении Мэри Дир. О'Хара, сказал Харбор, — это именно та жуткая тень на стене, которую каждый ребенок видит сквозь слипающиеся веки, когда няня уже закрыла дверь детской. Не многим из присутствующих довелось ознакомиться лично с означенными удобствами, но все одобрили его мысль.
В пятом акте отец Дули, потягивавший ирландское виски из закамуфлированной армейской фляги, реагировал драматически на разговор между Крюком и Венди.
(Венди выталкивают из трюма, и она с первого взгляда видит, что палубу давным-давно не скребли.)
К р ю к. Ну, моя красавица, сейчас ты полюбуешься, как твоих детей сбросят в море.
В е н д и (с благородным спокойствием). Они обречены?
К р ю к. Обречены! Тихо вы все, мать произнесет последнее напутствие своим детям.
В е н д и. Вот мое последнее напутствие. Дорогие мальчики, я знаю, что сказали бы вам ваши настоящие матери, они сказали бы так: „Мы верим, что наши сыновья погибнут, как англичане“.
Вот тут-то отец Дули шатко восстал на ноги и заклеймил скрытую в этих словах идейную подоплеку. Со сцены никто ничего не разобрал. Грейс, накидывавшая петли в партере, решила, что он обращает их внимание на войну, на число убитых и раненых. Мередит пытался объяснить, что пьеса написана задолго до Пepвой, а тем более Второй мировой бойни. И в 1915 году мистер Барри сам писал Джорджу, своему приемному сыну, кстати, прототипу одного из пропащих мальчишек, как ему теперь чужды ратные подвиги. „Война мне решительно омерзела“. И — в довершение всего — через несколько дней Джордж был убит пулей в голову, когда его батальон шел на Сент-Элуа.
Отец Дули возражал, что это не имеет отношения к делу, и продолжал свои манифестации. Доктор Парвин уволок его домой. Мередит, в войну наблюдавший кровопролитие исключительно из тылового обоза, объявил перерыв, спрыгнул в оркестр и сел к роялю увечить Баха.
* * *
После исполнения гимна, перед поднятием занавеса Роза толкнула речь о смешанных чувствах в связи с несчастным случаем, выпавшим на долю Ричарда Сент-Айвза. Смешанных, пояснила она, потому что театр тем самым имел возможность пригласить П.Л.О'Хару. Она привлекла внимание зала к раненному герою, который, оперев ногу на подушками устланные козлы, загромождающие центральный проход, сидел, окутанный красным пледом, в третьем ряду. Его приветствовали овациями, и внучка Рашфорта, плотная девочка в кудерьках, подбежала и поднесла ему букет. Это она потом взвизгнула так отчаянно, когда Крюк впервые явился на сцене, когтя дымный воздух над заледенелой рекой.
После последнего вызова Бонни вошел в реквизитную и пригласил Стеллу посидеть со всеми в „Коммерческом отеле“. Лицензионное время кончилось, и „Устричный бар“ закрылся.
— Пойдем, развлечешься, — сказал он и прибавил галантно: — Ты отлично справилась с факелом.
— Большое вам спасибо, — сказала она. Ей страшно хотелось пойти, но идея претила.
— И вы тоже, Джордж, — сказал Бонни.
Джордж уклонился. Если он опять припозднится, его благоверная намылит ему шею по первое число.
Стелла кинулась наверх — причепуриться в гримерке статистов. Хотела снять спецовку — поднизом была блузка Лили, — но, когда расстегнулась, глянула в зеркало, оказалось, что у нее странно торчит грудь. Хотела, чтоб поправить дело, снять бюстгальтер, но передумала — вдруг Дотти заметит и отпустит нескромное замечание личного характера насчет ее созревания.
Она просто себе не представляла, как она сунется в этот „Коммерческий отель“, если никто ее туда не введет. Бэбз и Грейс, конечно, возьмут такси. Но если сойти вниз чересчур быстро, получится, что она рассчитывает прокатиться нашармачка, вот закавыка, а если задержаться — они уедут, и тогда вообще непонятно, как ей набраться храбрости и не сбежать.
Она пошла искать Джеффри. Швейцар сказал, что он уже ушел. Выбравшись наконец на улицу, она увидела метрах в ста спины Джона Харбора с Мередитом. Села на корточки и завязывала несуществующие шнурки, пока оба не перешли Клэйтон-сквер и не завернули за угол, к Болд-стрит.
Нет, не могу, решила она. Кому нужны эти посиделки? И повернула к дому, обходным путем, чтоб на кого-нибудь не напороться. Она сама на себя злилась, что такая ерунда ее выбивает из колеи. Будь она отпрыском пьянчужек со Скотланд-роуд или уродись, скажем, с заячьей губой, как дочка Ма Тангов, — тогда бы еще понятно. Ну неужели нельзя перебороть свою природу хотя бы на десять секунд, пока открываешь дверь и переступаешь порог этого несчастного отеля?
Она двинулась к телефону-автомату возле „Починки старых кукол“, но тут услышала рокот притормаживающего на обочине рядом с ней мотоцикла. Оглянулась и узнала О'Хару. Он был в шлеме, который облюбовал в день приезда, в защитных очках и, когда их снял, стал похож на сову: на темном от сажи лице глаза моргают в белых обводьях.
— Прыгай! — И он похлопал по заднему сиденью.
Стелла вцепилась в хрусткую кожу его пальто, и они загрохотали вверх, в гору, взревели вдоль Хоуп-стрит, полетели мимо миссии, института, мимо обрушенного силуэта методистской церкви. Босоногого мальчишку, впряженного в деревянную телегу и втягивающего ее в проулок, сиганувшего к стене кота — обоих сразу схватили фары и отдали тьме, и мотоцикл мчался дальше, дальше, прошуршал по треугольному блеску воды между волнорезами трамвайных путей и с разлета пристал у „Коммерческого отеля“.
Хозяйка Мередита предоставила в их распоряжение заднюю гостиную. Огонь в камине, бутерброды на чайном столике. Один пират налил Стелле полстакана джина. Она залпом выпила и закашлялась.
Провозглашались тосты за Мэри Дир и О'Хару. Спектакль изумительный, идеальный, идеальный. Прелесть немыслимая. Семь раз давали занавес, и вызывали бы еще, если бы Роза, обеспокоенная грозившими рабочим сцены сверхурочными, не сигнализировала Фредди Рейналду, что пора вытуривать публику.
А этот детский вопль во втором акте, и потом это шиканье… а взрыв рыданий, когда Чинь-Чинь выпила яд и Питер объявил, что она умрет… а этот вздох, который прошелестел, да, именно прошелестел по залу, когда Питер, один на скале в лагуне под луной, всходящей над Никогданией, слышит печальный русалочий крик…
О'Хара от имени труппы сказал несколько слов в честь Мередита. Проделана замечательная работа, в чрезвычайно трудных условиях. Превосходно решена проблема освещения.
Мередит, сидевший по-турецки на полу в своей спортивной куртке, в ответ поднял стакан.
— Очень мило, — вякнул он. — Такие хвалы, из таких уст.
Стелла спросила Джона Харбора, не видал ли он Джеффри.
— Ушел, — сказал Харбор. — Скорей всего дуется. — И стал ее просвещать, почему он считает, что сегодняшняя игра О'Хары сопоставима с великими шекспировскими ролями таких корифеев, как Ралфи и Ларри[24].
— Он абсолютно подчинил себе зал! — восклицал он. — Как они его ненавидели. Эти его выпады, позы, эта сатанинская усмешка… и учтивость, от которой мороз по коже… — Но он, кажется, вдруг сообразил, с кем говорит, оборвал себя на полуслове и бросил ее ради Мэри Дир. Сидя у ее ног, жадно заглядывая в детское, увядшее личико, он все начал по новой: „Вы абсолютно подчинили себе зал. Как они вас любили…“ О'Хару заарканила Бэбз Осборн. Читала ему отрывки из письма какого-то типа с иностранной фамилией.
Ознакомительная версия.