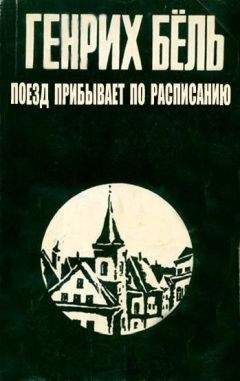– Не надо, – сказала она, – рассказывай лучше что-нибудь веселое… И подольше, – она засмеялась. – Тоже еще обманщик!
– Я хочу рассказать всю правду. И когда я крал, и когда обманывал. – Он снова налил вино и чокнулся с ней. Они взглянули друг на друга, улыбнулись, и в эту секунду он вдруг по-новому увидел ее красивое лицо. Я должен удержать это лицо в памяти, думал он, удержать навсегда, ведь она принадлежит мне.
Я люблю его, думала она, люблю его…
– Мой отец, – начал он тихо, – мой отец умер от последствий тяжелого ранения, мучался целых три года после той войны. Когда он умер, мне был всего год. Мать ненамного пережила его. Никаких подробностей я не знаю. Все это мне рассказали в один прекрасный день, когда захотели объяснить, что та женщина, которую я считал матерью, вовсе мне не мать. Я вырос у тетки, сестры матери, которая вышла замуж за адвоката. Адвокат загребал кучу денег, но у нас с ней никогда не было ни гроша за душой. Он пил, И мне казалось вполне естественным, что по утрам за завтраком глава семьи с похмелья куролесит и злобствует; позже, правда, я познакомился с другими главами семей, отцами моих товарищей, но их я как-то не принимал всерьез. Мужчины, которые не напиваются каждый вечер, а по утрам, за кофе, не устраивают безобразных сцен, для меня просто-напросто не существовали. «Вещь, которой нет» – так, по-моему, говорили гуингнмы у Свифта. Я думал, все мы рождены для того, чтобы на нас орали. Женщины рождаются, чтобы их третировали, рождаются, чтобы всякими правдами и неправдами спасаться от судебных исполнителей, чтобы выносить оскорбительные попреки обманутых торговцев, чтобы выискивать все новые возможности брать в долг. Тетка моя была в этом смысле виртуозом. Она умудрялась всякий раз находить нового кредитора. Казалось, уже все потеряно, но тут она вдруг становилась тихой как мышь, принимала таблетку первитина и куда-то исчезала. Домой она никогда не возвращалась без денег. Я считал ее моей матерью, а этого жирного опухшего борова с красными лопнувшими жилками на щеках моим драгоценным родителем. Белки глаз у него были желтоватые, изо рта разило пивом, вонь от него шла, как от прокисших дрожжей. Я считал его моим отцом. Мы жили в просторном особняке, имели прислугу и тому подобное, но иногда у тетки не было ни пфеннига и она не могла сесть на трамвай, проехать несколько остановок. А мой дядя был знаменитым адвокатом… Тебе не скучно слушать? – вдруг прервал он себя и встал, чтобы еще раз наполнить рюмки.
– Нет, – прошептала она, – нет, рассказывай дальше.
Прошло всего несколько секунд, пока он осторожно наливал вино в высокие рюмки, которые стояли на курительном столике, но за эти секунды она успела оглядеть его руки и бледное худое лицо. Интересно, думала она, как он выглядел, когда ему было лет пять-шесть или когда ему было тринадцать и он сидел в том особняке эа завтраком. Этого жирного пьянчугу адвоката, который ковырял ложкой в джеме и ничего не желал есть, кроме колбасы, она легко могла себе представить. Напившись, они не хотят есть ничего, кроме колбасы! Его жена была, наверное, хрупкая женщина, а этот бледный маленький мальчонка был, вероятно, очень застенчив и боялся кашлянуть, хотя от тяжелого сигарного дыма у него першило в горле и хотелось кашлять. Но он боялся кашлянуть, потому что вечно пьяный жирный боров приходил от этого в ярость, потому что знаменитый адвокат, услышав детский кашель, буквально лез на стенку…
– А тетя, – спросила она, – как она выглядела? Опиши мне подробно твою тетку.
– Тетка моя была маленького роста, хрупкая.
– Она была похожа на твою маму?
– Да, если судить по фотографиям, она была очень похожа на маму. Потом, когда я стал старше и кое-что узнал, я всегда думал, как это ужасно, наверное, когда он… обнимает ее: огромный тяжелый детина с одышкой и с этими красными лопнувшими жилками на одутловатых щеках и на носу; ведь жилки она видит тогда говеем, совсем близко, и его большие, желтоватые, мутные глаза, и все остальное тоже. Картина эта долгие месяцы преследовала меня, стоило мне только вспомнить о них обоих. Я ведь думал, что он мой отец, и не спал ночей, все спрашивал себя: «Почему они выходят замуж за таких мужчин?» И…
– И твою тетку ты тоже обманывал? Да?…
– Да, – сказал он и помолчал секунду, стараясь не встречаться с ней взглядом. – Это было ужасно. Знаешь, однажды он тяжело заболел, весь организм у него был разрушен алкоголем: и печень, и почки, и сердце. И вот он лежал в больнице, и мы поехали к нему в воскресенье утром на такси, ему должны были сделать операцию. Солнце сияло, но на душе у меня был мрак. Тетка рыдала навзрыд и каждые две минуты шептала: «Молись, чтобы все благополучно кончилось». Она шептала мне это каждые две минуты, и я вынужден был обещать ей. И не выполнил обещания. Мне минуло тогда девять, и я уже знал, что он вовсе не мой отец. Нет, я не стал молиться, чтобы все благополучно кончилось. Просто не мог. Конечно, я не стал молиться, чтобы все кончилось плохо. Даже мысль об этом ужасала меня. Но молиться, чтобы все кончилось хорошо, я тоже не хотел. И невольно я все время думал, как здорово будет, если он… да, я так думал. Весь дом был бы наш, никаких скандалов и вообще… А тетке я обещал молиться за его выздоровление. Не мог я этого сделать. И мозг мой сверлила одна-единственная мысль: боже мой, почему они выходят замуж за таких мужчин, почему они выходят замуж за таких мужчин?
– Потому что они их любят, – внезапно прервала его Олина.
– Смотри, – сказал он с удивлением, – ты это тоже поняла? Да, она его любила, полюбила когда-то давно, а потом продолжала любить. Конечно, в давние времена, кончив университет, он был хоть куда. Сохранилась его карточка, на которой он был снят сразу после последних экзаменов. В такой смешной шапочке, понимаешь? В студенческой шапочке. Смех! В тысяча девятьсот седьмом году. Тогда он был совсем другой, но только внешне.
– Как так?
– Понимаешь, только внешне. По-моему, глаза у него были такие же. Только брюхо он еще не успел отрастить. Но мне кажется, он и на этой студенческой карточке был ужасен. Я бы лично сразу понял, как он будет выглядеть, когда ему стукнет сорок пять, понял бы, что за таких, как он, нельзя выходить замуж. Но она его все еще любила, хотя он превратился черт знает во что, мучал ее, даже изменял ей. Она любила его совершенно безоговорочно. Я этого не могу постигнуть…
– Не можешь постигнуть?
Он опять взглянул на нее с изумлением. Она привстала, спустила ноги с кушетки и подсела к нему ближе.
– Не можешь постигнуть? – переспросила она с жаром.
– Нет, – повторил он удивленно.
– Тогда ты не понимаешь, что такое любовь. Да…
Она взглянула на Андреаса, и его испугало ее лицо, ее сосредоточенное, страстное, совершенно преобразившееся лицо.
– Да, – снова сказала она, – безоговорочно. Любовь всегда безоговорочна. Неужели, – спросила она вполголоса, – неужели ты никогда не любил?
Он вдруг закрыл глаза. И почувствовал снова, что где-то в глубине его существа тяжело ворочается боль. И это тоже, думал он, и это тоже я должен ей рассказать. Никаких секретов между нами быть не должно, а я-то надеялся, что сумею сохранить для себя одного воспоминание о незнакомом девичьем лице и свою надежду. А я-то думал, что все это останется только моим и уйдет вместе со мной… Он не открывал глаз, борясь с охватившей его дрожью, и в комнате стояла мертвая тишина. Нет, думал он, я сохраню это для себя одного. Это ведь мое, принадлежит мне и никому больше; три с половиной года я жил только этим воспоминанием… воспоминанием об одной десятой доле секунды на холме за Амьеном. Зачем ей так глубоко и так больно вторгаться мне в душу? Зачем бередить тщательно оберегаемую, уже затянувшуюся рану? Бередить словом, которое проникает в меня подобно зонду, безошибочному зонду хирурга…
Да, думала она, вот в чем дело. Он любит другую. Он дрожит, пальцы у него свело, он закрыл глаза; вот какую боль я ему причинила. Самую большую боль всегда причиняешь человеку, которого любишь. Таков закон. Ему так больно, что он даже не в силах плакать. От нестерпимой боли слезы не спасают, думала она. Боже, почему я не та, которую он любит? Почему я не могу перевоплотиться в нее, в ее душу, в ее тело? Ничего своего я не хочу сохранить. Ничего. Я отдала бы всю себя только за то, за то… чтобы иметь глаза той, другой. В эту ночь накануне его смерти, в эту ночь, которая стала последней и для меня тоже, ибо без него жизнь потеряет всякую цену, в эту ночь… мне хотелось бы иметь что-нибудь от той, другой, хотя бы ее ресницы. За ее ресницы я готова отдать всю себя…
– Да, – сказал он тихо. Голос у него был совершенно бесстрастный, почти мертвый. – Да, я так любил, что мог отдать душу только за то, чтобы на мгновение прижаться к ее губам. Лишь сейчас я это понял, в ту секунду, когда ты спросила меня. И наверное, именно поэтому мне не суждено с ней встретиться. Ведь я мог бы пойти на убийство только ради того, чтобы увидеть подол ее платья, когда она сворачивает за угол, Я так жаждал увидеть ее наяву, хоть раз наяву. Да, я молился за нее, молился каждый день. Но все это была ложь и самообман, ведь я думал, что люблю только ее душу. Только ее душу! Но я бы отдал все эти тысячи молитв за то, чтобы хоть раз поцеловать ее в губы. Да, сегодня я это понял.