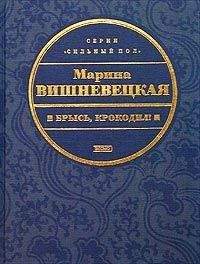Но он уже опередил ее на полный корпус и жирной складкой на стриженом затылке лыбился в ответ.
Всякий раз говоря очередной своей клиентке – какой-нибудь молодящейся вдове, неловко распродающей антиквариат: «Наше время – время интеллигентных людей миновало»,– Саша, сообразуясь с настроением и ситуацией, полновесным выдохом добавляла: «– Представьте, ведь я уже докторскую начинала писать!» – или: «Если бы меня видели сейчас мои аспиранты!» – или: «Какое счастье, что хоть наши мужья не дожили до дней нашего позора!»
Старик – тот, к сожалению, в самом деле не дожил. Их брак был сначала фиктивным, потом дефективным…
А мама и дожила, и вволю успела поликовать. Потому что права оказалась в кои-то веки: настоящую профессию дочке дала. Чуть не пинками ее заталкивала в душный подвал парикмахерской – и это в самое первое студенческое лето, когда до визга хотелось и в стройотряд, и в лагерь под Анапу. Нет, грязные головы мой. И ведь мыла, ревела, а мыла, И уж так от этих головомоек устала, что, когда наконец ей доверили инструмент, снова всплакнула и стала разглядывать в зеркале – не клиента, конечно, а совершенно счастливую себя – с ножницами, за настоящей работой!
С ними и разъезжала теперь по клиенткам. Спасибо Старику – не на своих двоих. Шурик с присущей ему глумливостью именовал этот брак Вторым Интернационалом (очевидно, намекая на его нестойкость и скорый крах), свой же союз с буряткой гордо звал Первым. Народил узкоглазого сына, пристроил бурятку в Консерваторию читать историю религий, то есть тот же самый научный атеизм, но только без прежней аффектации. Зато аффектирует сам: «И ведь сумела, чертовка, перестроилась, овладела!» – язык у него повернулся такое ребенку сказать.
«А ты, Женя, ему не ответила: уж если, папуля, она овладела у тебя одним местом, то все остальное?..» – «Ну мама!» – «Что мама?» – «Сначала ведь ты его увела. А потом его у тебя увели».– «А у тебя? У тебя отца не увели?» – «Ты же тоже его увела от Яси и Тоси!» – «Не хамить! Матери не хамят!» – «Значит, ты бабушке не хамишь, да? Ты ей только дерзишь? Ты ее всего-навсего с говном смешиваешь…» – «Не передергивай! И эту манеру взяла от отца!» – «Хорошо еще – не от заезжего молодца».– «Это он тебя научил?» – «Чему?» – «Про заезжего молодца?!» – «Остынь!» – «Он! Или бурятка нагундосила?» – «Когда ты поймешь наконец, что им вообще про тебя неинтересно?» – «Ах, скажите, пожалуйста! Про что же им интересно?» – «Про коммунистические идеи, которые стояли еще у колыбели христианства, как считает папа, и которые так просто, развалом какой-то империи не могут быть отменены!» – «А про меня ему, значит, неинтересно! В самом деле, какая-то парикмахерша, содержащая его дочку!» – «Ну мама! Что ты сравниваешь? Тут крах целой научной системы воззрений, может быть, крах развития всего человечества! А ты…» – «А я со своим мелкотравчатым крахом, да? Они украли мою диссертацию! Они сломали мою научную карьеру! И ты, все это зная! Ты!..» – «Ой, мам, но Вера – чума».– «А я тебе про что?» – «Ты совсем про другое. Вера говорит, что двадцать первый век будет определять собой желтая раса, поэтому христианство будет вытеснено буддизмом, который уже и сегодня является религией интеллектуалов».– «Ты что – ходишь на ее лекции? В глаза мне смотри!» – «Это она папу загружает. А он ей: „Врешь, чмо юртовое!“ Интересно, чмо – это что?» – «Не знаю. Меня он звал „чмо кукурузное“».– «Хи-и-и-и! А похоже! Извини! Хиии-ии!»
С оскорбительной радостью, с тем же «хи-и-и» согласившись пожить у бабули, пока Саша устраивала свою с Отариком личную жизнь, Женька надолго у бабушки не задержалась – прибилась к Ясику и Тосику, своим сводным братьям, обитавшим в огромной квартире на Сивцевом Вражке. Не столько готовила, сколько кашеварила на всех, выпускные экзамены сдала кое-как, вступительные на юрфак провалила, получала копейки в юридической консультации, воображая, что зарабатывает стаж, и радовалась жизни, как тысяча канареек.
Впервые эта мысль пришла Саше, когда Женьке было года четыре: что у них с Женькой теперь один на двоих генератор, вырабатывающий радость жизни, что-то вроде общего сердца сиамских близнецов. И это открытие ее тогда почти не испугало. Однако сейчас, когда мучительное разделение их тел и судеб, по сути, было уже завершено, Саша с пробуксовывающей, хлюпающей тоской ощущала, что источник когда-то жившей в ней радости навсегда утрачен, унесен, похищен, спрятан в кулечке, в сверточке… тесной, снова ей тесной дубленки четвертого роста, сорок восьмого размера!
Единственное, что тебе не изменит,– магическая формула, с детства вбитая в их подкорку, удивительным образом выжившая и тогда, когда это единственное скоропалительно отменили: в листовках и комиксах, раздаваемых возле метро, этим единственным отныне именовался Христос – формула эта была некорректной по сути. Закурив, Саша с удовольствием себе кивнула: в жизни есть только то, чему не изменишь ты,– орущему на тебя сверточку в турецкой дубленке, живущему с худосочным арабом…– Прекрати! Не сейчас! Сейчас у тебя есть беда и покруче!– за рулем Саша запрещала себе думать об этом Третьем, можно сказать, Интернационале, о Коминтерне, можно сказать, потому что суставы и мышцы начинали от этого самопроизвольно подергиваться.
А что, если Женьку огорошить тем, что бабушка-де не перенесла такого известия,– а сделать это было еще не поздно! недели три назад она укатила с бой-френдом на юг и, стало быть, все могло выясниться уже без нее (к сороковинам, то есть максимум – завтра, Женя обещала вернуться, но юность есть юность, родства не помнящая!)…– так вот, если Женьке сказать, что бабуля, узнав про сожительство внучки с арабом, упала и, не приходя в сознание, умерла – Саша наконец-таки вклинилась в соседний ряд, двигавшийся чуть бойчей,– Я молодец, у меня все получится!– это может возыметь редкое, более того – по назидательности ни с чем не сравнимое воздействие. Рядом с мамой ведь в самом деле нашли на полу телефон. А то, что она намеревалась вызвать скорую, было только гипотезой! Вина Олега (пока до конца не доказанная, зато какая чудовищная… Саше вдруг вспомнилась еще одна косвенная, а впрочем, скорее всего и неопровержимая улика!) давала Саше полное право списать на него этот самый последний и роковой разговор: «Нина Федоровна, вы прописали на своей жилплощади Женю».– «Да, Олег. Это мой долг».– «А знаете ли вы, что на вашей жилплощади может оказаться прописанным и гражданин Ливана?» – «Я вас не понимаю, Олег!..» – «Сейчас поймете!» – Ну и так далее, с присущей ему прямолинейностью.
Умереть точно так, как жила, без всякой цели и смысла, Саша ей не позволит. Женьку мама по-своему любила. Вот и пусть ей поможет, чем может. Даже странно, как это раньше не пришло Саше в голову! Просто нужен был этот аффект. Будь он трижды неладен!
В первые дни, когда вязкий, черный ужас забил все поры, глаза, рот, душу, Саша лежала на диване или сидела, привалившись к нему спиной, на ковре, коньяк заедала табачным дымом, сигареты давила яростно, точно клопов, и затягивалась, должно быть, так же яростно: барашковые папахи вырастали на сигаретках в доли секунды, и этим притягивали взгляд и его же ужасали, и все время осыпались на синий халат. В голове почему-то вертелось: визави меня Везувий,– пока не поняла, верней – не ощутила себя вдруг там, внутри брюлловской картины, в левом нижнем углу – крупной женщиной в темном пеплуме. Только прижать к себе было некого, хотя руки подрагивали и суетливо искали, кого бы – но не Олега же! Разговоры, которые в этот период он пытался вести с ней, не проникали в сознание целиком:
«И через три года выкапывали».– «Кого?» – «Монахов, Сашанечка! Останки афонских монахов».– «Кто выкапывал?» – «Другие монахи».– «Уйди. Нет. Посиди тут. Молча!» – «Если по прошествии трех лет кости оказывались белыми…» – «Ты – чудовище!» – «Сашаронька, дослушай!» – «Ее нет… Я не могу себе это втемяшить: вообще нет!» – «Но кремация еще больше усугубит твое непонимание».– «Больше некуда, животное!» – «Если кости оказывались белыми, что свидетельствовало о праведности умершего, их складывали в раку, где они и хранились, заметь, доступные для обозрения. А вот кости желтого цвета закапывались в землю вновь, до достижения белизны».– «Сходи в угловой за коньяком».– «Час ночи, Саша!» – «Сходи в киоск».– «Не стоит, хватит, у тебя же сердце».– «А у тебя? Одни белые-белые кости, да? Раскопать тебя после смерти? Ты на это нарываешься?» – «Мы лишены культуры переживания смерти. И я решил облегчить тебе, насколько это возможно…» – «Хватит по живому кромсать, вивисектор несчастный!» – «Просто меня это вдруг поразило – сейчас! Ты дослушай! Какой парадокс! Так презирать плоть и верить в то, что белизна костей свидетельствует о чистоте души! Тут есть, есть над чем подумать!» – «Ненавижу! Твою степень тупости, твою ученую степень тупости!» – «А впрочем, никакого парадокса и нет! Плоть ведь тварнад, сотворенная Им! Потому и мышей всегда жаль…» – «А меня?! Меня не жаль? Ты бы сел и поплакал со мной! Что ты мне мозги компостируешь? Я же все равно лишена культуры!» – «Я так не сказал, неправда! Я сказал, что мы все лишены…» – «Обалдеть! Я и при жизни-то не помню, когда ее целовала. А там – я не смогу. Я боюсь!» – «Вот поэтому-то я и рассказываю тебе…» – «Ты харакири мне делаешь – это ты понимаешь?» – «Харакири, Сашанечка, можно сделать только самому себе.» – «Я историк! Я знаю не хуже тебя!.. Вон отсюда, ничтожество, идиота кусок!»