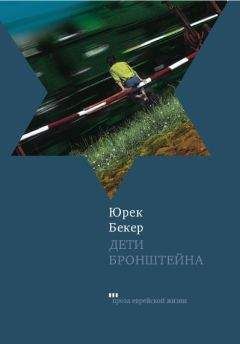Они перешли на другую сторону, я заметил это после, а сначала решил, что их потерял. Мы шли параллельно, на одном уровне, какая неосторожность, вот была бы жуть, если б Марта обнаружила слежку. И тут я — не раздумывая, будто все последующее разумеется само собой и надо только выполнить задачу, — бегу, я пробегаю сто метров, перехожу улицу и спокойненько иду им навстречу. Они не видят, как я приближаюсь. Марта болтает, он слушает. Многие сочли бы его лицо красивым, мужественным, но мне видится в нем что-то дурацкое. Галстук серый в красную полоску, облако туалетной воды, на подбородке странная глубокая ямка.
— Марта, привет, — говорю я.
Не заметил я, чтоб она до смерти испугалась. Не заметил, чтоб покраснела от стыда. Прервала свою речь и повернулась ко мне. Удивилась, конечно. И секунда-другая ей понадобились, конечно. Говорит:
— А ты что тут делаешь?
Стоят себе и не думают расцеплять руки. Он глядит на часы, подумать только, ему уже наскучило ждать, на часы он глядит! Отвечаю:
— Да ничего особенного. К другу заходил, он живет тут рядом. До скорого.
И ухожу, ни за что в жизни я не обернусь. Меня злит, что я одет как подросток, не как мужчина: техасы, кеды, свитерок без рубашки. Марта знает всех моих друзей, точнее, она знает, что друзей у меня нет и в этом районе тоже. Спросит он у нее, кто я такой, а она ответит, мол, знакомый ее родителей не так давно умер, а сына его, то есть меня, родители взяли к себе.
***
В пятницу после завтрака я пошел к Вернеру Клее, он отчасти мой друг. Ничего я не планировал, просто надеялся, что скорее справлюсь со своей беспомощностью, если хоть с кем-то побуду рядом. Вообще-то я давно его избегаю.
Этот день сохранился у меня в памяти как особенно странный, полный событий, не имевших, впрочем, никаких последствий. Дело было накануне открытия Всемирного фестиваля молодежи, на улицах толпы иностранцев и полиция. Я пошел кружным путем, чтоб наглядеться как следует, такого оживления в городе я отродясь не наблюдал.
Мать Вернера сказала, что тот еще в постели, и я было повернулся к выходу, как вдруг она распахнула дверь в комнату, словно воспользовавшись удачным предлогом. Смотрю, он трет глаза и зевает. Мать затолкала меня в комнату и прикрыла дверь. Вернер, похоже, опять собирался заснуть, поэтому я отворил окно и уселся на стул, служивший ему прикроватной тумбочкой. Он схватил меня за руку и стал вглядываться в циферблат часов, только я не понял, рано сейчас или поздно, по его мнению.
Вернер сказал, что дело у меня, несомненно, очень важное, ведь иначе бы я, увидев, как здорово помешал, давно бы развернулся и ушел. Вечно он острит, просто болезнь какая-то, а если не найдет слова, достаточно остроумные с его точки зрения, то предпочитает отмалчиваться. Эта его манера мне постепенно стала нравиться, хотя и требовала порой немалого терпения.
— Ну ладно, раз ты настаиваешь, — произнес он, спрыгивая с кровати, вид у него был жуткий. Натянул штаны и вышел в ванную, предупредив, что денег в комнате ни пфеннига и, значит, нечего шарить по углам.
Прождав минут пять, я уже и сам не знал, зачем явился. На улице заплакал младенец, я подошел к окну и выглянул во двор, там девушка так отчаянно трясла коляску, что вопрос был только в том, как скоро та коляска развалится. Сюда меня привела идея, которая казалась мне то очень правильной, то совсем ребяческой, а именно: написать отцу или Кварту анонимное письмо. Какова будет их реакция, если в письме сообщить, что о деле их известно и если пленника до такого-то не выпустят, то придется подключить полицию? Не питая особых иллюзий, я все-таки хотел довести затею до конца, главным образом, из следующих соображений: это лучше, чем ничего. Вдруг они рассорятся между собой из-за этого письма.
Вернер вернулся, и я попросил его одолжить мне на несколько часов пишущую машинку. Видно, моя сломалась — вот что он предположил, но я подсказал сам:
— Мне надо написать анонимное письмо.
Вернер кивнул, ничуточки не удивившись, словно к нему каждый день обращаются с подобными просьбами. Понюхал свои носки и кинул их мне, чтобы я решил, можно ли надеть их еще раз.
Я пошел за ним на кухню, где он врубил радио на такую мощность, что на низких частотах дрожал пол, и стал готовить себе завтрак. На стене висела клетка, в которой дико металась перепуганная птичка. Вернер, нарезая хлеб, прокричал свой вопрос: а кому анонимное письмо?
Выключив радио, я ответил:
— Мне она нужна только на полдня, не больше.
Тут Вернер объяснил, что машинка принадлежит не ему, а отцу и что у того весьма напряженные отношения с частной собственностью, однако я могу печатать в его комнате, а он с удовольствием поможет мне подобрать формулировки. Затем он поинтересовался, отчего бы мне не вырезать из газеты слова и буквы и не наклеить их на лист бумаги, так ведь всегда делают анонимщики.
Я было закатил глаза, но это не помогло, я сам дурак, он все трепался и трепался о моем ребячестве и никак не мог успокоиться. Пришлось попросить его забыть про ту машинку, не так уж это важно. Улыбнувшись, он кивнул и заметил:
— Могу себе представить, что дело крайнее, если уж такой рассудительный человек докатился до анонимки.
Покуда он жевал, я решил не писать письмо: им и пяти минут не понадобится, чтобы вычислить меня как единственно возможного отправителя. Риск чересчур велик в сравнении с минимальной надеждой на успех. Думаю, я с самого начала считал затею негодной, иначе не откровенничал бы с Вернером.
Спросил, известили ли его, когда и в какой казарме ему придется начать армейскую службу. А он ответил, что чисто случайно знает один магазинчик на Фридрихштрассе, где пишущие машинки выдают по часам напрокат, прямо под железнодорожным мостом.
— Печально, что ты всех доканываешь своими остротами, — не сдержался я.
— Ничего, пока это вполне проходит, — сказал он и посмотрел на меня чуть пристальней, чем следовало бы.
Я просунул хлебную крошку в клетку, где теперь птичка неподвижно сидела на жердочке. Вернер же сказал, что хлеб погубит эту птичку, и я до сих пор не знаю, была ли это очередная его шутка. Наши отношения явно обострялись. Я повторил вопрос про армейскую службу, а он в ответ сообщил, что в том магазинчике под мостом есть кабинки, где можно печатать без присмотра. Мне ничего не оставалось, кроме как распрощаться со словами, что я лучше зайду в другой раз.
Я пошел к двери, и он не стал меня задерживать. Сказал с набитым ртом:
— Мои шутки всегда одинаковые. Почему именно теперь они тебе действуют на нервы?
— Сам не знаю, — ответил я и ушел. Наверное, ему показалась странной моя неожиданная обидчивость.
На улице меня осенила новая идея. Мне пришло в голову, что существуют две группы людей, к которым можно обратиться за советом, не опасаясь, что твою тайну выболтают властям: священники и юристы.
Мысль о том, как я иду в католическую церковь, сажусь в исповедальне и делюсь своими горестями с большим чужим ухом, увлекала меня недолго. Значит, вопрос в том, о чем говорить с юристом: мне нужен настоящий совет, а не юридическая консультация. Правда, некий правовой аспект имеет ко мне непосредственное отношение: я — лицо, знающее о деянии. В отличие от отца, Кварта и Ротштейна, я не могу рассчитывать на снисхождение, в моем случае не учитываются смягчающие обстоятельства. Но могут ли укрывателя привлечь к ответственности более строго, нежели самих похитителей? И тут я сообразил, что являюсь также сообщником надзирателя.
Я понятия не имел, до какой степени можно полагаться на конфиденциальность юристов, я их видел только в кино. А где взять деньги на юриста? А с чего я взял, что именно юристам дозволено защищать меня перед лицом так называемой общественности?
В поисках какой-нибудь идеи получше я вдруг вспомнил, что отец у Гитты Зейдель — адвокат. Это придавало делу новый оборот, к ней можно обратиться за содействием. Если я иду к юристу как друг его дочери, а не кто-то там, мои опасения безосновательны, не так ли? Она жила чуть дальше по нашей улице, и я ей нравился. На всех больших переменах она стояла во дворе и мне улыбалась. Некоторые парни у нас в школе считали меня сумасшедшим, поскольку меня совсем не задевали ее чувства, но они ведь не видели Марту.
Пришлось миновать три телефонные будки, пока я не нашел одну целую, не разбитую. В справочнике среди абонентов по фамилии Зейдель я отыскал номер телефона, относившийся к нужному адресу. Трубку взяла мать или, во всяком случае, немолодая женщина, а спустя несколько мгновений сама Гитта Зейдель. Я назвал свое имя, она сказала: «О!»
С места в карьер я спросил, нельзя ли нам встретиться, мол, у меня неприятности, от которых она может меня избавить. «Я?» — переспросила она и захихикала.
Я умолял ее встретиться со мной прямо сегодня, ведь срочность невероятная, и нарочно так настаивал, что она уже сама не соображала, всерьез я прошу или нет. Выдержав жеманную паузу, она предложила встретиться после обеда, не уточняя зачем. Но после обеда у меня назначена встреча с Мартой, так что я уговорил ее спуститься через час (с Гиттой Зейдель это не всякому бы удалось), ровно в полдень.