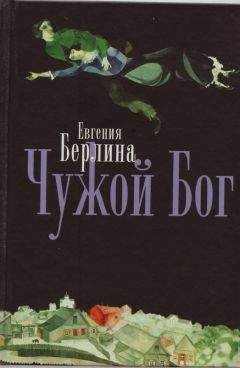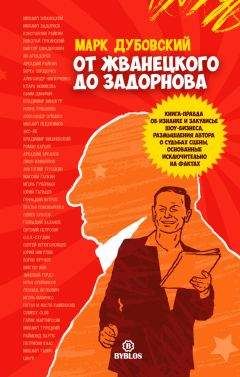Ознакомительная версия.
После смерти его матери, жившей с ними, Елена Леонидовна очень переменилась: как будто вдруг исчезло защищающее её разумное начало, она увлеклась мистикой, оккультными науками — вместе со своей сестрой Анной, часто приезжающей к ним из Тулы, где она преподавала после окончания художественного училища.
Последние годы Елена Леонидовна часто говорила о своей «малости и ничтожности», о смерти как «растворении своего бытия в общем бытии», но всё так же любила званые вечера, хотя денег на них уже не было.
Ей доставляло удовольствие ощущение публичности бытия, иногда у неё это принимало форму бесстыдства. Она ходила в слишком открытой, обтягивающей одежде, часто в любимых ею пресловутых «дольчиках» — тонких ярких рейтузах, которые носят со свитером, без юбки.
Сестра её Анна, всегда в тёмных одеждах, ироничная, злая, по мнению Ильи Михайловича, ненавидящая красоту (он всё удивлялся, почему она стала художницей), только смеялась над ним, его дочерьми, месяцами живя в его доме, а теперь приезжая каждые выходные. Но дом для Ильи Михайловича был более всего домом его дочерей — Лены и Аллы.
* * *
Он много лет довольствовался ролью «вечного мальчика» в потёртых джинсах и спортивной кепочке, ходившего развинченной походкой и знающего массу анекдотов. Илья Михайлович, как и многие его друзья, считал, что это — тайный протест против общества, которое платит им за «отсиживание» в НИИ по сто пятьдесят рублей и делает их во всём зависимыми.
Когда начались перемены в обществе, в душе Ильи Михайловича появился страх, природу которого он сам не мог объяснить. Казалось бы, и о демократии много говорили и писали, он теперь с удовольствием покупал ранее запрещённые книги, читал смелые статьи, но страх не оставлял его.
Илья Михайлович не бедствовал, к своему экономическому факультету вовремя прибавил курсы бухгалтеров, а приятель устроил в совместное с австрийцами коммерческое предприятие «Факел», даже перспектива была съездить в Вену.
Знакомый его, романтик и сочинитель, сказал, что «в очередной раз сливалась линия времени». И хотя в этом определении было много неточности, оно запомнилось Илье Михайловичу своей драматичностью.
Он много лет казался всем «мальчиком без идеалов», приятным и весёлым, словом, никаким. Но это было не совсем так: в его весёлой покорности прошлых лет был всё-таки протест, пусть жалкий и смешной, и его неверие в общество, презрение к жизни, которой он жил, невольно рождало в душе желание верить, даже воспоминание детской веры в доброе и прекрасное.
И оттого он понял вдруг, что новое время беспощадно, потому что оно пришло сразу и потребовало другого чувствования. Его первым стремлением — невольным после всеобщего ликования — было защитить свой дом от разрушения, от вопросов, которые начала задавать шестнадцатилетняя Лена. Илья Михайлович так долго был подчинён внешним обстоятельствам, что острее улавливал движение чуждых ему сил, чем желания и стремления собственной души. Ему, как существу зависимому, был свойственен не всегда органичный переход от любви к ненависти, от радости к печали, и если сам он не догадывался об этом, то его дочь с беспощадностью молодости всё поняла.
— Что ты можешь знать о моей жизни? — первый раз раздражённо крикнул он в ответ на Ленины обвинения его поколения в трусости.
И тут же, с горечью для себя: «Что она, девочка, может понять в той цепи преодолений и унижений, лжи, которые и были нашей жизнью?»
Илья Михайлович тогда впервые подумал, что мог бы уйти, покинуть дом, где молодящаяся жена со своей сестрицей проводят время в обществе доморощенных астрологов, где старшая дочь ждёт его ответа — и он никогда не сможет ей ничего объяснить.
«Но чтобы уйти, надо знать, какую жизнь ты будешь искать, — думал он иронически. — А зачем тебе эта новая жизнь? Она нужна юным, сопливым, нищим, тебе-то она зачем?»
Он примирился с жизнью в своём доме, убедив себя, что всё, чего он не понимает, — ложь, и обвинения дочери — ложь. Что же он, человек поживший и много видевший, не знает, что жизнь по сути своей безнравственна и греховна? Ну и ладно, и так хорошо.
И, примирившись, он смог себе многое позволить: он мог опять осуждать, иронизировать, не видеть того, что он не хотел видеть.
Елена Леонидовна, по-своему любившая мужа, заботилась о нем. С ней, сохранившей стройность, необычной и яркой женщиной, приятно было появляться среди коллег, в ресторанах, на вернисажах. Младшая дочь Алла была ещё занята своими куклами и попугайчиками. Только старшая — Лена, которая в запальчивости как-то сказала, что считает их дом мёртвым, тревожила, пугала.
И он не раз ловил себя на мысли, что Лена должна уйти из его дома.
* * *
Довольно он повозился с ней! И всё же Илья Михайлович не смог скрыть обиду, когда прочитал в её дневнике, что она презирает своего отца и его друзей.
«Отлично, девочка пишет, что обвиняет отца во всех грехах, и погода в Москве не меняется», — с горькой иронией подумал он.
Причины, как он давно уже уверил себя, искать бесполезно: всё дело было в самой Лене.
«Но чувства у неё всегда были искренние, — тут же поправил он себя. — Так что бойся, отец, против тебя родная дочь».
Он никогда бы не произнёс и даже не обозначил бы чётко в словах мысль, что Лена уйдёт только тогда, когда найдёт свою «стаю» — таких же, как она, жестоких, ни во что не верящих, ненавидящих, как будто потерявших всё. И оттого готовых к пороку.
И он должен всё сделать, чтобы она ушла, — так он решил спасти свой дом и, главное, младшую дочь.
Илья Михайлович привёл в свой дом Вадима, перед которым, как и перед Леной, испытывал в глубине души ужас и смущение — и в этом была его великая жертва хаосу, царившему вокруг него.
* * *
Вадим начал жить той жизнью, о которой мечтал: у него появились работа, дом, где его принимали и постоянно хвалили его жёсткость и деловитость, даже девушка, влюблённая в него.
Мешали только мелочи, чужие глупые рассуждения. Например, заместитель Ильи Михайловича, некий Садовский, маленький, бесцветный человечек, который, оформляя очередную партию детской одежды из Гонконга и обуви из Тайваня (СП занималось чем угодно, хотя и числилось российско-австрийским), нудил:
— Ты должен погибнуть, как и я, любой делец пустит тебя вперёд, чтобы ты протоптал дорожку ему, выложил её своим телом. Как будто самые умные подписывают эти бумаги? Их подписываем мы с тобой, заместители, доверенные своих мэтров. Да, ты тоже будешь когда-нибудь заместителем.
Их дети уже учатся в Европе, они милые, хорошие, нравственные, а ты беден и зол и пачкаешь свою душу. Знаешь, и наш Илья Михайлович мне сказал по секрету, что отправит младшую, Аллу, учиться в Германию через четыре года.
Но Вадим неохотно прислушивался к его словам.
«Если это общество, у которого сила и власть, я должен успеть подняться выше других», — думал он.
Честолюбие вновь сильно проявилось в нем. Ему стало казаться, что его ждёт успех в деловом мире.
«Как же я забыл? Ведь это уже было со мной, я хотел страдать, чтобы понять себя, чтобы добиться успеха, зубрил, корежась от насилия над собой, тексты, сдавал экзамены. А теперь не надо страдать, должно быть другое чувство — уверенности в себе, любви к себе».
Мысль о «другом чувстве» показалась ему верной и современной, она подходила к его нынешнему состоянию, к его дорогой, красивой одежде, пожертвованной в пьяной компании коммерческим директором СП «Факел». И если в другой ситуации, в другое время соответствие или несоответствие мыслей и одежды показалось бы ему смешным и глупым, то теперь это было естественно для его новой жизни.
* * *
Он теперь жил среди людей, пришедших в общество, чтобы приспособиться к его новым законам. В большинстве своём бедные и презирающие свою бедность люди, они стали судорожно натягивать дорогую одежду на свои тела, жадно есть и пить дорогие вина и водки и старались перехитрить и обогнать друг друга, чтобы получить больше денег, и вновь купить ещё более дорогие одежду, дома и машины. Среди них были умные, деловые, редко даже верующие во что-то люди, но они не умели создавать общество, а работали только для себя, своих детей, жён.
Было ощущение, что они вернулись: они были всегда, прятались по отделам институтов, предприятий, были администраторами, спекулянтами, сидели по тёмным углам, проедая наследство, и ждали. Но они были и отражением тех, кто шумно жил в конце 80-х годов, организовывал манифестации и митинги, лгал перед правящими страной, переживавшей в те годы трагедию слов и понятий (надо было заново понимать такие слова, как «народ», «правда», «душа»…)
Люди, пришедшие в 90-е годы, торопливо воплощали желания тех, кто лгал и ёрничал, корча из себя святых всего несколько лет назад.
Ознакомительная версия.