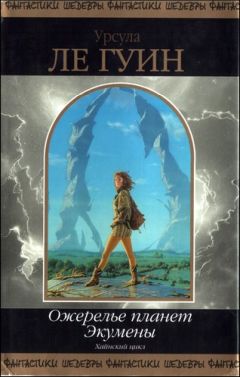«По поручению он мог сделать что угодно! Хоть залить, хоть запить, хоть черту кочергой залепить. Одно слово — негодяй!»
«Подпишись в протоколе. Подпишись своей настоящей фамилией, а не шипящим псевдонимом».
«Как же, как же, я помню, что моя фамилия Живолуп, только никому не говорю, храню гордое молчанье, как декабрист. Так под чем подписаться?»
«Как под чем? Битый час толкуем, что твой знакомый фигурант совершил злодейский проступок — по поручению губернатора заживо замуровал Софью Казимировну Дырку, а ты как будто ничего не понимаешь».
«Так это он? Ну, конечно, он! Надо же, как я сразу не догадался, что это он. Вот паскудник!»
В мастерской пахнет искореженным металлом, жженой костью и прожженной подлостью.
«Сегодня, mon prince, этот вития опять разглагольствовал по телевидению, что я похитила научные кости мамонта».
«А мамонт-то вам зачем?»
«Вы лучше спросите, зачем он палеонтологам? Протирать тряпочкой, омоченной слезами нищеты? А я хочу собрать в Нью-Йорке киргизскую юрту, поставить рядом ископаемое и протрубить, как мамонт. Знаете, сколько можно будет заработать денег? Я уже договорилась, mon prince, и действую как американский гангстер. Его надо заткнуть».
«Кого — мамонта?»
«Мамонт, слава Богу, молчит уже десять тысяч лет. Надо, чтобы замолчал вития».
«Хорошо, я посоветуюсь с палеонтологами».
«Не с палеонтологами, а с патологоанатомами!»
В ту грозовую ночь, когда черная точка лишилась жизни, дежурил Самохин по городу. Еще недавно он был хранителем печати, особо приближенным к губернатору. Но сверху повеяли новые полночные веяния, и зазвучал воинственный голос Юдзана Дайдодзи: «Когда самурай становится отшельником, он берет в руки мухобойку, чтобы повелевать простой толпой». И тогда пришлось, сложив вчетверо первую подвернувшуюся под руку газету, превратить печать в обыкновенную мухобойку.
И тогда пришлось кабинет Самохина обустроить в духе сурового самурайства. Куда-то исчезли милые, прелестные вещи (невские картинки Бенжамена Патерсена, голландские курительные трубки, мушкетерские кувшины с изображениями ангелов из Вестервальда), которые волшебным образом ужасное бытие превращают в прекрасный быт. Бытие ведь всегда бездушно, пустынно, ужасно. Быт же всегда одушевлен, всегда исполнен тысячью мелочей, а потому всегда прекрасен. Но для самураев, становящихся отшельниками, быт уже не имеет никакого значения, превращаясь в мужественное бытие, лишенное очаровательной никчемности.
С грустью-печалью вспоминал Самохин о своей былой должности, разворачивая иногда типографские листы или поглядывая на голубой экран. Вот и в ту грозовую ночь, охраняя мухобойку, он смотрел телевизор по привычке, не испытывая особого служебного рвения. Показывали разные веселые программы: в одной лунная сенаторша Киргиз-Кайсацкая потрясала мамонтовыми костями, в другой ее дочь — гламурная Гульнара — трясла своими.
«О, телевидение! — думал Самохин отвлеченно. — О, искрометные брызги информации, лебединая зыбь классического этюда, взбаламученный ил криминальной хроники! Как и море, телевидение есть имя среднее. Поэтому женщины здесь становятся яростными воительницами, а мужчины гримируются и пудрятся, приобретая внешний артистический лоск и округленный изгиб театральной позы. Телевидение уравнивает полы, расы, наречия. На телевидении невозможен герой, возможно лишь его отражение, его сочинение, выдумка его необыкновенная. И каждый, кто окунается в это безбрежное море, уже не в силах вернуться на грешную землю, запросто пройти по грибным дорожкам, по мосткам дождевым, а продолжает до конца мучиться под зыбким стеклом мушиного жужжания. Такова плата за желание перейти невидимую черту и возвыситься над другими, перестать быть и начинать казаться, выглядеть, мерещиться».
Тут на голубой экран, на благородное изображение сенаторши черной точкой садится реальная муха-цокотуха, нарушая течение отвлеченной мысли. Она тщательно перебирает лапками редкие пшеничные волосы, скатывается по крутому морщинистому лбу, перескакивает через высокую ограду крашеных ресниц, пробирается вдоль предгорья напудренного носа и, юркнув, ловко упрятывается в узкую ноздрю, как в пещерку.
«Одна маленькая цокотуха уничтожила всю магию телевидения, — констатирует Самохин. — Просто устроилась на милой сенаторской физиономии, и все волшебные усилия телевидения пошли насмарку. Быть может, там, по ту сторону синей фата-морганы, не спали всю предыдущую ночь, сочиняя возвышенный образ героини. А теперь героиня сидит с черной точкой на носу, и знать об этом не знает. Наличие точки — это случайность или закономерность? Скорее, закономерность, чем случайность, потому что муха прилетела на запах мертвечины. Она почуяла этот запах распада через тысячелетия вечной мерзлоты, через бурные волнения частоты, и прилетела. Ее прилет доказал, что жизнь бесстрашно несется на смерть, преодолевая незримые преграды».
Завершив течение отвлеченной мысли, Самохин вспоминает о своих непосредственных обязанностях, вооружается мухобойкой и, привстав, с размаху хлопает по голубому экрану. Благородное изображение, чихнув, благодарит за внимание. А черная точка, лишенная жизни, тихо падает с голубой высоты.
Грозовой была та ночь, роковой.
«Все правильно: человек должен стать лучше и злее. И потому вы, бесстрашный, белый, гордый, находитесь здесь, чтобы убивать этих лакомок?»
Самохин настороженно разглядывает ночного гостя, блистающего целеустремленностью и синевой: «Я просто-напросто дежурю по городу, а вот вы, господин полномочный, с какого переляку здесь будете?»
Спецчеловек по-хозяйски располагается в кабинете: «Насколько помнится, в недалеком прошлом вы являлись хранителем печати? Стало быть, кое-что читали и были осведомлены. Неужели вам не попадались новости нашего сайта?»
Новости сайта «Рубиновые звезды. ру»Федеральное давление на Петербург продолжается. Москве мало публичного покаяния питерского губернатора. Необходимо во что бы то ни стало обеспечить его уход в самое ближайшее время. Пока же о полном разгроме Петербурга говорить рано. Отдельных лиц смогли перекупить, но губернаторский костяк держится. Поэтому Москва намерена кое-кого припугнуть или даже посадить из ближайшего окружения, хотя альтернативного лидера в Петербурге все равно нет. Ввиду высокого самомнения петербуржцев противостояние двух столиц далеко не закончено. Во что оно выльется, можно будет сказать после празднования 300-летия Петербурга, которое станет главным событием года.
«Новости попадались, — сглатывает слюну Самохин. — Свежие были. И прочее, так сказать».
«Ну, значит, вы все знаете. Тогда перейдем к делу, — улыбается спецчеловек и, вынув пинцет, метким движением подцепляет безжизненную точку. — Надеюсь, вы не будете отрицать, что только что на моих глазах совершили преступление — убили представителя животного мира. Убили жестоко, можно сказать, садистски».
Он говорит неторопливо, с густой мелодичной хрипотцой, делая мрачные акценты на криминальные термины — преступление, убийство, садизм. При этом держит пинцет с безжизненной точкой прямо перед глазами Самохина, как будто стремится окончательно убедить хранителя в совершении страшного, невообразимого злодеяния.
«Между прочим, это статья, — спецчеловек галантно подставляет под пинцет прозрачный целлофан и опускает туда улику. — Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, с применением садистских методов. Наказывается арестом на срок до шести месяцев».
«Муха — не животное, — пытается оправдаться Самохин. — Муха — вредное насекомое, так сказать».
«Для вашего сведения — насекомое есть беспозвоночное животное, — спецчеловек берет лупу в золоченой оправе. — Убедитесь сами, как безжалостно переломали вы усики, крылышки и ножки безобидного существа, так доверчиво прилетевшего на ваш вечерний огонек».
Под увеличительным стеклом безжизненная точка преображается в огромное мистическое чудовище, достойное страшного сказочного сериала, которым потчует весь мир фантастический американский кинематограф.
«К сожалению, в этой истории есть отягчающие обстоятельства, — продолжает дознание спецчеловек. — Убийство произошло в Смольном при исполнении. Следовательно, это была незаконная охота на территории специального заказника, совершенная лицом с использованием своего служебного положения. Наказывается лишением свободы на срок до двух лет. Представьте, два чудесных года в приюте спокойствия, трудов и вдохновенья — сам Пушкин позавидует! Но для особо приближенного все равно маловато будет».