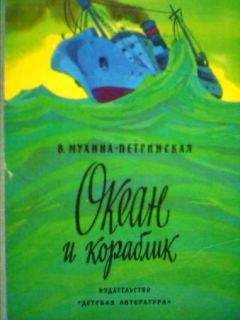Я медленно пошла домой, подняв воротник демисезонного пальто и нахлобучив пушистую вязанную шапочку на уши. Не мешало бы надеть и шубу. Холодно. Августина давно мне ее прислала вместе с новыми валенками, шерстяными чулками и пуховым платком.
Пройдя чугунные узорные ворота экспериментальной станции, я пошла еще медленнее. Там был свой воздух, свой микроклимат. Запах океана перебивал сыровато-горьковатый запах опавших листьев, влажной коры и еще живых под снегом трав. И чем ближе подходила я к дому, тем более замедляла шаги. Мне хотелось еще хоть немного побыть одной и думать, думать, думать о человеке, которого я люблю. А думать бы о нем не следовало, а тем более плыть с ним на одном корабле невесть куда… Как в кинофильме, на образ Иннокентия порой наплывал другой, неприятный, но зловеще неизбежный — лицо его жены крупным планом — или маленькая фигурка мальчика, идущая вдали.
Вчера меня догнала на улице Лариса и сказала, что немного проводит меня. Она явно благоволила ко мне. Я ей нравилась. Почему? Ведь я ее не любила. Разве что была лишь справедлива к ней, но как же иначе.
О муже она не говорила. Ее бесило, что Лена Ломако законтрактовалась матросом на «Ассоль» и уходила в это долгое плавание вместе с Харитоном. Лариса говорила о Харитоне вызывающе-откровенно, как о близком ей человеке.
— А я не верю, — вдруг сказала я, — ничего у вас с Чугуновым нет. Наверно, так же как и с профессором во Владивостоке, из-за которого вас исключили… Может, вы ему и нравились, конечно же, нравились, но вряд ли что было… А это гнусное разбирательство… Наверно, вам было просто противно отнекиваться. Когда меня обвиняют в том, что явно мне несвойственно, я тоже никогда не оправдываюсь. Не могу, противно. А вот вы… вы нарочно, чтоб досадить Иннокентию. Отплатить ему за что-то. Вы взяли это на себя и всем-всем рассказывали эту выдумку. А люди верили. Плохому о человеке легко почему-то верят. Даже пословица есть такая: добрая слава лежит, а худая по дорожке бежит. Вот так-то.
Лариса даже остановилась. Как всегда, она была одета вызывающе модно, и все на ней было как-то «чересчур». Чересчур короткое платье, чересчур подсиненные веки, а шиньон на голове такой высокий, что и шляпы подходящей не нашлось. Полосатым шелковым платком плотно укутала голову и туго завязала его сзади. Глаза ее лихорадочно блестели. Она схватила меня за плечо и стала трясти изо всей силы.
— Отчего, отчего ты не веришь? Не понимаю. Все ж так обо мне думают.
— Не верю, — подтвердила я со вздохом. — Это же всегда так, и в плохом и в хорошем: кто делает — тот помалкивает.
Лариса буквально взвилась:
— А Иннокентий охотно верил всему плохому обо мне. Он всегда всему верил. Он только хорошему во мне не верил.
— Лариса Николаевна… можно мне вас спросить?
— Да. Спрашивай.
Я колебалась, и она даже ногой в красном сапожке топнула.
— Вы… писали на родителей мужа анонимные письма? Лариса вдруг так густо покраснела, что даже сумерки не скрыли ее внезапного мучительного румянца.
— Да. Писала.
— Зачем?
— Я их ненавижу. Всех его родных.
— За что?
— Не знаю. Они уж слишком непогрешимые. У, как я их ненавижу! И больше всего — мать Кента. За что? За все. И за то, что умна, что выглядит молодо. Она же бабушка, а у нее молодой муж, который влюблен в нее. Он же, идиот, даже не понимает, что моложе ее на целых двенадцать лет. Ненавижу за то, что она — идеал для Иннокентия. Он всю жизнь будет примеривать женщин к этому идеалу. И его талантливую сестрицу, которую он обожает, ненавижу. Всех их скопом. Иногда мне кажется, что я даже сына своего Юрку не люблю за то, что он весь в них. Он только отца любит да бабушку. Так и рвется к ним. Пробовала запрещать ему ходить на станцию — не слушается. Наказывала — не помогает. Пробовала бить… Он не выносит даже простой оплеухи. Зовет на помощь. Вы когда-нибудь слышали о таком: родная мать шлепнет, а он кричит, словно его убивают. Сбегаются соседи, прохожие. Опять вызов в прокуратуру. Меня предупреждали, что, если я еще раз «подыму руку на ребенка», его у меня отберут… Лишат материнских прав. А ведь семья Тутавы только и мечтает заполучить Юрку…
— Лариса, то стихотворение… это не вы его написали.
— Конечно, не я. Иннокентий, еще школьником. В десятом, что ли, классе. Так насчет Юрки… Я пробовала завязать ему рот…
— Я не желаю вас слушать! Как вам не совестно! — закричала я на всю улицу. — Зачем выдумывать?
Лариса схватила меня за руку:
— Не ори. Успокойся. Больше его не трону: слишком нервный. Когда стала завязывать ему рот, он потерял сознание.
Я вырвала руку и бросилась от нее бегом. Если это правда, она психически больна. Какая-то удивительная потребность на себя наговаривать.
И вдруг я поняла: что бы там ни было, верно одно: Лариса глубоко несчастный человек. Я обернулась. Она недвижно стояла на тротуаре. Я так же бегом вернулась к ней.
— Лариса Николаевна, может, вы и это выдумали? Вам лучше знать, но в любом случае вам необходим душевный покой. Пожалейте себя и мальчика. Может, вам посоветоваться с кем-нибудь умным и добрым? Ваш отец…
Лариса жестко рассмеялась:
— «Умные и добрые» на стороне Иннокентия и моей свекрови. Ты ведь тоже на их стороне, разве не так?
— Ненависть всегда плохо кончается, Лариса Николаевна. Бойтесь ее. До свидания.
Мы пошли в разные стороны. Это было вчера.
Я шла по аллее, усыпанной гравием, и он хрустел под ногами. А может, это снежок, запорошивший гравий, так хрустел. Ночь была безлунная, и ослепительно сверкали в ночном небе огромные косматые звезды.
Я люблю тебя, как сорок Ласковых сестер.
Я приостановилась. Мне надо его разлюбить. Просто разлюбить, и все! Но как это сделать?
Когда я вошла в темную теплую переднюю, до меня донесся из столовой взволнованный, изменившийся голос Иннокентия:
— Да, да… ведь я был мальчишкой!.. А вы никогда ни слова плохого о ней… Эта интеллигентская мягкотелость… Умудренные жизнью люди…
Я разделась, дрожащими руками повесила пальто и, стараясь погромче топать, вошла в столовую.
Рената Алексеевна, очень бледная, и нахмурившийся Кафка Тутава сидели рядом на диване. Мой дядя сидел в кресле, в углу, закрыв рукою глаза. У сервированного стола (к еде не прикасались, видно, ждали меня, в этом добром доме всегда ждали друг друга) стоял мрачный, злой Иннокентий. Лицо его испугало меня. Всегда спокойное и замкнутое, оно показалось мне совсем юным, беспомощным, отчаявшимся.
— Вы предоставили мне самому убедиться… Но цена этого урока слишком велика…
Он удрученно замолчал…
— Ну вот, поговорили… Простите меня. И ты, Марфенька. извини. Я пойду… Похожу у океана.
Иннокентий бросился вон из дома, как был, в одном свитере.
— Кент, оденься, простудишься! — закричала вслед ему мать. Она хотела бежать за ним, но Кафка удержал ее:
— Ты же сама простудишься.
Рената Алексеевна с трудом сдерживала рыдания. Не знаю, что они там делали дальше. Я мчалась сломя голову за Иннокентием с его пальто в руках.
Догнала его у самого обрыва. Он искал в темноте тропу, идущую вниз к океану.
— Сейчас же оденьтесь! — заорала я. — Ваша мама боится, что вы простудитесь.
— Не стоило беспокоиться, — пробормотал Иннокентий, но послушно надел пальто. — Марфенька! Кабы ты знала, как мне тяжко! Как… тяжко.
Он опустился на мокрый камень у обрыва и замер, обратив лицо к океану.
Судорога сжимала мне горло, и я не могла вымолвить ни слова. Только нагнулась и подняла его шапку, упавшую в заснеженную траву. Так я и стояла с шапкой в руках, долго, пока не закоченела. Океан бушевал далеко внизу, круша скалы. Луч прожектора скользнул по океану, по городку, горам, на миг осветил нас.
Наконец Иннокентий словно бы очнулся.
— Как! Ты еще здесь! И раздета! — вскричал он, окончательно придя в себя. Он вскочил на ноги, сняв с себя пальто, надел на меня и велел бежать домой, сколько есть сил.
— Но вы опять останетесь без пальто.
— Беги, тебе говорят, я за тобой…
Теперь мы изо всех сил бежали по темным аллеям, я впереди, он — чуть позади, словно догоняя. Уже смех меня начал разбирать. У дома я приостановилась, и Иннокентий догнал меня. Он с силой прижал мое лицо к довольно-таки колючему свитеру, буркнул какое-то извинение и, забрав свое пальто, ушел к себе в бунгало.
Я вернулась домой. Дяди не было. Он с моим пальто в руках искал меня по всему парку. Потом зашел в бунгало и, успокоенный Иннокентием, вернулся домой. Мы ужинали вчетвером. Говорили об Иннокентии.
— Вот что он носил в душе все эти годы, — сокрушенно сказал Кафка Тутава. — Возможно, думал, что, будь родной отец, он удержал бы его от этого брака. Но как я мог употребить родительскую власть, не допустить? Мы привыкли уважать в нем личность, даже когда он был ребенком…