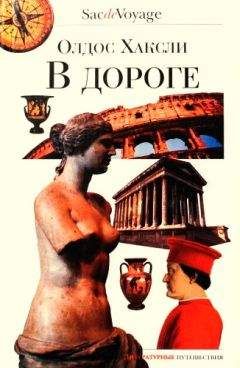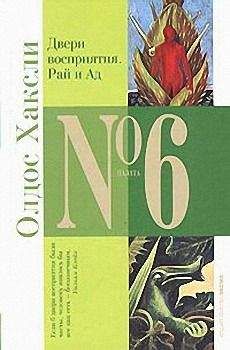Искушение было велико, однако я героически с ним боролся и в конце концов победил. Я решил, что не буду манипулировать правдой ради чьей-то репутации, как бы мне ни хотелось утвердиться в качестве критика со своим взглядом на предмет. А правда заключалась в том, увы, что наш уникальный Конксолюс на самом деле ничем не примечательный художник. Он, правда, умело владел кистью, но не более того. Главное его достоинство в том, что он жил в тринадцатом веке и работал в характерном стиле своей эпохи. Он писал в декадентской византийской манере, которую мы неправильно называем «примитивной» и считаем отсталой для Флоренции шестнадцатого века, в то время как она существовала в шестом веке в Равенне и была тогда прогрессивной. В этом, повторяю, состоит главное достоинство Конксолюса — во всяком случае, для нас. Еще сто лет назад его примитивность не вызвала бы ничего, кроме жалости и смеха. Теперь все изменилось, причем настолько, что многие молодые люди, не желающие прослыть старомодными, взирают на картины, точно воспроизводящие действительность, с подозрением и a priori с насмешкой, если только какой-нибудь авторитетный эстет не признал их «химически чистыми». Им не нужна природная красота в искусстве. Тщательно написанный портрет красивой женщины для них не более чем «коробка шоколаду», а прекрасный пейзаж — просто поэзия. Если произведение искусства производит впечатление, если трогает с первого взгляда, тогда оно уж точно не заслуживает внимания с точки зрения этих людей. Та же самая доктрина, применительно к музыке, привела к «восхищению» Бахом, даже Бахом в его самых механистических и бездушных творениях, в ущерб Бетховену. Она привела к сухому «классическому» исполнению Моцарта: считается, что его музыка не волнует слушателя, ведь в ней нет вульгарной эмоциональности, как у Вагнера. Она привела к появлению шумных, как паровой двигатель, похожих на органные, пьес Генделя и бездушного грохота Палестрины. А смешной юноша, настроенный против сентиментальности и плаксивости, характеризующих, по его мнению, поздневикторианскую эпоху, остается равнодушным к подобным произведениям, хотя есть все основания аплодировать мастерству их авторов. То же самое в живописи. Чем грязнее колорит, чем больше искажены фигуры, тем «выше» искусство. Сотни молодых художников, даже если могут, не осмеливаются писать реалистично и с душой из страха потерять внимание молодых знатоков — своих покровителей. Правда, настоящие художники пишут хорошо и изображают все, что хотят, каким бы банальным это ни считалось; плохие же художники пишут плохо в любых обстоятельствах. Не стоит огорчаться, если посредственные молодые живописцы предпочитают веселью, реализму и очарованию бесформенность и тусклые краски. Не так уж важно, что им нравится делать. Люди порой получают удовольствие даже от творений весьма посредственных художников прошлого, когда те старались как можно лучше подражать природе и представлять различные сюжеты. Так появились точные изображения великолепных объектов, созданные кистью на холсте документы и комментарии, забавные истории и замечания о жизни. Пусть это не великое искусство, но, по крайней мере, оно ценно и имеет не только эстетическое значение. Стремясь к мифическому идеалу чистой эстетики, в жертву которому принесено все, кроме формы, молодой бездарный художник сегодняшнего дня дарит нам одну лишь скуку. Его картины не хороши, но они не только не хороши — они не напоминают нам ни о каких приятных вещах; они не станут ни документами эпохи, ни комментариями, ни о чем нам не расскажут. Короче говоря, в них нет ничего, за что их стоило бы похвалить. Не доставляя нам радости, второразрядный художник (если он желает быть «авангардистом») становится невыносимым занудой.
Юношеское недоверие к реализму относится не только к современности, но и к прошлому. Из двух одинаково бездарных художников прошлого юноша, не размышляя, выберет того, кто менее реалистичен, более «примитивен». Конксолюса любят больше, чем его соперника из семнадцатого века, просто потом); что его фигуры не напоминают ни о чем прекрасном в природе, потому что он не имеет ни малейшего представления о свете и тени, потому что его композиции до ужаса симметричны, потому что эмоциональное содержание его исполненных христианского рвения полотен давно выветрилось, не оставив ничего, что могло бы пробудить в нас хоть какое-нибудь чувство — разве что знаменитый эстетический восторг, усердно насаждаемый молодыми.
Правда и условность в произведениях итальянских художников семнадцатого столетия совершенно невыносима. В надежде искусственно создать атмосферу страсти они заставляют своих персонажей дико жестикулировать, что выглядит крайне нелепо. Барочный и схожий с ним романтический стили более всего подходят для комедии. У Аристофана, Рабле, Нэша, Бальзака, Диккенса, Роулендсона, Гойи, Доре, Домье и безымянных творцов гротеска во всем мире и во все времена — творцов чистой комедии, будь то в литературе или в изобразительном искусстве, — всегда был экстравагантный, барочный, романтический стиль. И это естественно: для чистой комедии экстравагантность и преувеличение необходимы. А вот у истинных гениев (как Марло и Шекспир, Микеланджело и Рембрандт) этот стиль, если бы он служил для серьезных целей, был бы смешон. Почти все искусство барокко и почти все романтическое искусство более поздней эпохи были гротескными, потому что художники (не первого ряда) пытались выразить нечто трагическое, пользуясь чисто комическими приемами. В этом отношении творения «примитивистов» — даже второразрядных — предпочтительнее творений их потомков из seicento. Ибо в их живописных полотнах нет противоречия между стилем и предметом. Но это отрицательное качество, так как картины второразрядных примитивистов приятны на вид, однако невыразимо скучны. Работы более поздних реалистов могут быть вульгарными и даже в целом нелепыми, однако зачастую это искупается очарованием деталей. На полотнах второразрядных художников семнадцатого столетия, как правило, встречаются очаровательные пейзажи, необычные лица, странные сочетания света и тени: по правде говоря, это не искупает их посредственности, однако позволяет получать от них удовольствие. Работа Конксолюсов более ранних времен сама по себе вызывает почтение, однако их творения настолько скучны, что не спасают даже забавные или милые детали. Из-за своего нелепого аскетического недоверия к явно приятным вещам юное поколение лишает себя многих удовольствий. Оно утомляет себя скучными второразрядными Конксолюсами, тогда как могло бы получать удовольствие от таких же второразрядных художников, вроде Фетти, Караваджо, Розы да Тиволи, Карпиони, Гверчино, Луки Джордано и прочих. Если уж так необходимо изучать второразрядные произведения, — а при этом есть немало настолько хороших картин, что мимо них не пройдешь, — то разумнее взглянуть на те, которые могут хоть что-то дать (даже если лакомые кусочки спрятаны среди немыслимого кошмара), чем на те, от которых вовсе нет проку.
Добраться до Борго-Сан-Сеполькро не так-то просто. Из Ареццо туда ведет по горам до смешного короткая ветка железной дороги. Можно, правда, проехать из Перуджи по долине Тибра. Или, если вам случится оказаться в Урбино, то оттуда ходит автобус в Сан-Сеполькро, который потом отправляется обратно, и дорога по горам в один конец занимает часов семь, может быть, немножко больше. Это путешествие не шуточное, знаю по опыту. Но его стоит совершить — хотя желательно не на автобусе, а на каком другом транспорте — ради Бокка Трабариа, самой красивой дороги в Апеннинах, что проходит между долиной Тибра и расположенной выше долиной Метавро. Мы были там ранней весной. Наш автобус стонал и дребезжал, медленно поднимаясь по белому северному склону горы, среди голых камней, сухой травы и деревьев, на которых еще не распустились почки. Он пересек седловину и вдруг, словно по мановению волшебной палочки, все кругом стало желтым от бесчисленных примул: каждый их цветок был маленьким символом солнца, призывавшим его согреть землю.
Наконец мы добрались до Сан-Сеполькро — и что мы там увидели? Небольшой огороженный стеной городишко в широкой ровной долине между двух гор; несколько красивых дворцов эпохи Ренессанса с нарядными балкончиками, украшенными коваными решетками; не очень интересную церковь и, наконец, лучшую в мире картину.
Лучшая в мире картина — это фреска на стене в одном из залов Ратуши. Вскоре после того, как она была написана, какой-то невежественный вандал приказал ее закрасить, и она оставалась около двух столетий под толстым слоем штукатурки, после чего ее расчистили, и оказалось, что старая фреска прекрасно сохранилась. Благодаря вандалам посетитель Палаццо деи Консерватори в Борго-Сан-Сеполькро может любоваться воскресшей фреской почти в том же виде, в каком ее сотворил Пьеро делла Франческа. Она сияет со стен чистыми, изысканно сдержанными цветами, правда, не такими свежими, как прежде. Но ее не портили ни сырость, ни пыль. Нам не надо напрягать воображение, чтобы представить себе, как она была прекрасна: она перед нами во всем своем блеске — величайшая картина в мире.