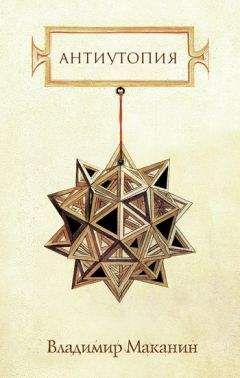Нет, он не может ехать, не может сидеть у автобусного окна, пока голубя не уберут, пока не смоют шлангом или не смоет дождем – («Ну ты подумай! – говорил он мне. – Убивают одни, а смывают другие!»), – ему настолько плохо, что он не может с этого дня ездить на работу, берет больничный. Он – дома. Он – только дома. Прогулки во внутреннем дворике, никаких улиц. Но конечно же и во дворе их дома, где он гуляет, его подстерегает удар боли: он вдруг видит сломанный куст. Да, сломали ветку. Или выдернули куст с корнем. Его ранимой душе хватит, в сущности, и травинки – стебель травинки сломан, на сломе сочится.
Приятель моей юности Илья, Илья Иванович, смотрит на эту травинку неотрывно, род любви, ему делается больно, так больно, что словно бы космический свист врывается в его уши, сердце стучит, бьет, и вместе с болью капля за каплей что-то медленно выжимается, выдавливается из колотящегося его сердца. Желтой вспышкой вспоминается вдруг детство – одна за одной яркие вспышки давнего лета, слезы начинают его душить, спазм в горле ни туда ни сюда, и... и вот Илья Иванович, мой приятель, взрослый человек, скорым шагом через двор пересекает напрямик детскую площадку, затем (еще более торопливо) асфальтовый пятачок у подъезда, быстрее, быстрее домой, дрожь бьет, преследует его в лифте, – вот он наконец в своей комнате, бросается ничком на постель, утыкается головой в подушку, плачет.
Жизнь, люди, окружающий мир – оно сработало.
Илья Иванович подавлен; вдруг взвинчен и вновь подавлен – он звонит в клинику, где его прекрасно знают и где его звонку не удивляются, а только просят побыть дома, потерпеть еще день-два, как раз освободится место в привычной ему палате. Конечно, если все так остро и больно, они найдут ему сейчас же палату и место какое-никакое. Хотите сейчас?.. Нет, нет. День-два он выдержит. Спасибо... Звонок сделан. Ему легче. Надвигающиеся тяжелые его дни под защитой. Срабатывает психомеханизм.
Вечером он уже звонит мне. Или некоему Виталию Сергеевичу, еще один его приятель. Он хочет просто поговорить, потолковать со мной – теперь, когда его ранимость на какое-то время прикрыта, Илья Иванович может поговорить и о жизни вообще, и о нашем сложном мире. Да, да, просто поговорить. Теперь, уходя, он смелеет, к нему возвращается острота ума, а также самоирония.
– Проводишь меня до психушки? – Он не любит, если его провожают в больницу родные. Ему думается, что, если провожают родные, – это уже льются слезы, уже беда. Не станет же всерьез он считать свое заболевание слишком опасным – ну, нервишки, ну, поплохело. Головушку надо бы подлечить. Вот и все. Если провожает в больницу приятель, ясно, что событие не так уж значительно и пугающе.
Через день-два мы уже идем известной дорогой, огибая 16-этажные башни микрорайона. Больница несколько в отдалении. Она за оградой, за хорошей оградой, переделанная (перепрофилированная) из бывшего монастыря. Во всяком случае, когда мы подходим, а идем мы всегда не спеша, распределив нагрузку – он с двумя сумками, и я с большой сумкой (одежда, запас соков), – я вижу хорошо огражденное заведение, психиатрическую больницу. Издали она глядится как крепость, где ранимый человек хочет укрыться от зла, которое захлестывает наш мир.
Каков перевертыш!.. (И соответственно – какова дистанция, как долог путь.) Если тот молодой человек из будущего, создавший АТм-241, ездил по земле и летал на самолетах над огромными пространствами, залитыми миром, он только и нашел зло заключенным в ограду бойни (нашел его загнанным, запрятанным за стены), то реальный человек нашего века, Илья Иванович, мой приятель, из залитого злом огромного мира только и нашел для себя приемлемой пядь земли, пятачок пространства за стенами больницы. Пятачок, свободный от зла. Туда Илья Иванович и прятался, защищенный там успокаивающими уколами и психотерапией расположенных к нему лечащих его врачей.
У молодого изобретателя из будущего зло оказалось припрятанным на огороженных кусках степи, и убивали там, в степях, только животных (зло, загнанное за ограду). Так что заодно можно представить себе наш будущий лакированный мир – то есть этакое чудо земное (ну, за отдельными пятнышками огороженных исключений).
Мы подходим ближе; уже видна продуманная протяженность больничных стен, а также их скрепы – старинные башни. Отгороженный и тоже хорошо охраняемый пятачок счастья. Башни (в прошлом, конечно, тоже монастырские) особенно впечатляют. Видали, мол, мы разных нападавших. Устояли. Мол, устоим и теперь.
Крепость. Приятель моей юности, Илья Иванович, хочет, чтобы его растревоженное «я» было защищено и ограждено за этими крепостными стенами, а также за стенами лекарств, квалифицированных врачей и режима. (Нет, на воротах не написано «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ».) У входа в больницу Илья прощается со мной. Он не хочет даже несколько удлинить прогулку, так как побаивается самого себя, боится быть вне этих стен – он и так уж терпеливо и на пределе ждал два дня, пока освободится палата. Ему пора.
Мы жмем друг другу руки. Пока. Не меньше шести недель, – говорит он.
В больнице, в их столовой (последнее, что могло бы его вывести из себя), не будет мясных блюд. Многие из нервных больных не в состоянии видеть даже скромной котлеты, так как путь всякого куска мяса начинается на бойне. И потому для части больничных палат рацион продуман. Илья Иванович как раз в одной из таких палат. Каши, молоко, творог. Овощные супы. Соки и фрукты, если могут, носят родственники.
– Как ты думаешь, они только от меня и от моих соседей по палате прячут свои котлеты?.. или запрет введен по всей больнице?
Он, уже приобщенный, хочет думать, что здесь, за оградой больницы, нет даже вторичных признаков зла, следов мировой злобы. Он хочет думать, что крепость – это крепость.
– Я слышал, что в этой больнице пища вегетарианская и молочная, – говорю я осторожно.
– Где ты слышал?
В его голосе нетерпение, и я понимаю, что он хочет быть обманутым. И я обманываю его.
– Я слышал, как врач разговаривал с диетсестрой.
– А-а. Понятно.
Ему этого достаточно.
Мы много с ним говорили о природе зла, о различных проявлениях злобы. Быть может, это выводило Илью из нервозности внутренней во внешнюю: в нервный разговор.
Как-то я сказал ему, что я узнал (или угадал) длящееся зло еще в те дни, когда я был подростком. Зло протянуто (и переменчиво) во времени, а не в пространстве. А когда я, в свою очередь, спросил его – как ты считаешь, Илья, когда ты понял, что зло есть и что оно длится, что зло живет, – он ответил:
– Поверишь ли, я знал это всегда.
– С детства?
– Да, с детства. Даже раньше. Всегда.
Однажды Илья Иванович был у завуча школы (что-то по поводу своего сына, тогда десятиклассника) – и как раз там был включен телевизор, в кабинете завуча, что ли, или в другом кабинете. И надо же такому случиться, что во время их разговора, обычного разговора завуча и родителя одного из учеников, телевидение стало рассказывать о плохой работе наших мясокомбинатов. Тут-то и показали краешком бойню. Мол, деньги никто не вкладывает. Мол, оборудование как устарело! Животных показали перед включением рубильника. Задранные морды коров в тесноте боксов. Мычание их (дали вскользь и звук, и картинку. Секунд пять. Только чтобы экран был предметен и конкретен). Илья Иванович побледнел. Он вдруг схватился за грудь, словно его пробили насквозь. И выскочил в коридор.
Завуч решил, что ему стало дурно от духоты. Илья Иванович в коридоре, стоя возле урны, блевал, его выворачивало, а затем – даже не умывшись в школьном туалете – он помчался домой. Бежал по улице в распахнутом пиджаке, со сбившимся галстуком (в школу, по сложившейся традиции, приходят одетыми строго, солидно), с запачканным подбородком и трясущимися губами, лысеющий сорокавосьмилетний мужчина, – он бежал и нет-нет вскрикивал, словно боль ранения его настигала. Вбежав домой, он рухнул на постель ничком, как делал он всегда в подобных случаях, сбивая опасный накат эмоции. Однако не обошлось: случился первый его инфаркт.
Год спустя, от второго инфаркта, у себя дома, он умер. В лунную для всех нас ночь.
Он объяснял мне, что в больнице его хорошо подлечивают («глушат душу») и что каждый раз, возвращаясь из психушки, он уже не жалеет живое и гибнущее. Он чувствует себя воином.
Он даже чувствует в себе способность вести вечную войну живых с живыми – а ведь это и значит жить. Он говорил «воином» конечно же с иронией. Возможно, старинное слово казалось ему в такую минуту почти синонимом слова «убийца».
– Да, – сказал Илья, выходя из больничных стен, с их башнями, – я чувствую себя воином. И живу.
Я тогда же подумал, что все мы, живущие, – воины.
Я вспомнил очень известного, умного тибетского ламу, который сметал сам или велел сметать перед собой пыль под ногами, дабы ни единым своим шагом случайно не раздавить жучка, переползающего ему путь. Лама даже дышал через марлю, чтобы не убивать своей слизистой оболочкой микробов, которые прилипнут к слизистой и погибнут, как только он вдохнет.