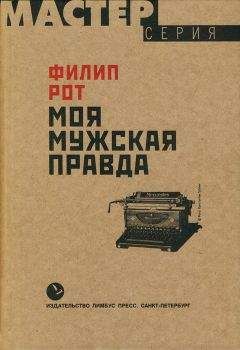Одним словом, вернуться можно. Причем двумя способами. Один более разумен, но и более труден для меня: расстаться с Муни. Радикальным образом обезопаситься от всех возможных попыток шантажа со стороны родственников Моники (оставшихся в живых). Разорвать отношения следует твердо и мудро. Я должен убедить ее, что где-то существует другой мужчина, настоящий ее мужчина, рядом с которым она будет не просто существовать, но полноценно жить. Она станет счастлива и весела. Я вовсе не обрекаю тебя, Муни, на одиночество. Наоборот: ты будешь иметь выбор. У тебя появятся десятки поклонников (у такой красивой, у такой притягательной молодой женщины, несомненно, будет много ухажеров). Да они и сейчас не дают ей на улице прохода: наглые типы со страстными вздохами и воздушными поцелуями; думают, что Муни — шведка или финка; на итальянцев это действует, как валерьянка на котов… Итак, либо немедленно расстаться с Моникой и до отъезда в Соединенные Штаты перебраться одному на другую какую-нибудь квартиру. Либо вернуться в Америку вместе с Муни и там жить, как живут все любовники, как живут все… Если, конечно, верить газетным статьям о свершившейся у меня на родине «сексуальной революции».
Однако оба варианта при ближайшем рассмотрении оказались неприемлемыми. Может быть, моя страна изменилась, я — нет. Стать рабом обстоятельств — перспектива слишком унизительная даже для меня. Конрадовский «Лорд Джим», «Тереза Дескейру» Мориака, «Письма к отцу» Кафки, Готорн и Стриндберг, Софокл и Фрейд — все эти горы книг не подготовили меня к спуску в пропасть унижения. То ли я слишком завишу от литературы, то ли, наоборот, моя жизнь вообще с ней не соотносится. В любом случае положение оказалось безвыходным. Строчка из «Процесса»[69], слова о том, что стыд за содеянное переживет содеявшего, стоят передо мной, как зеркало. Но я не герой романа, во всяком случае — не этого. Я живой. И живо ощущаю собственное унижение. Боже, когда в юности на школьном дворе мяч выскальзывал из моих неловких рук и товарищи по команде (как по команде) хватались в отчаянии за головы, я думал, что унижен и обесчещен. Чего бы я не дал сейчас за такое бесчестье! Чего бы я не дал сейчас, чтобы вновь очутиться в Чикаго, разжевывать каждое утро стилистику и поэтику с первокурсниками, жевать по вечерам жалкий обед в столовке, читать перед сном классиков, лежа в кровати, — по пятьдесят чудных страниц с пометками на полях; Манн, Толстой, Гоголь, Пруст — вот с кем стоит делить холостяцкую постель. О, если бы вернуть чувство собственной нужности, пусть даже с мигренью в придачу! Как я хотел жить! Как я хотел жить достойно! Самонадеянный глупец.
Итак, в Италии оканчивается рассказ о чикагском периоде жизни Натана Цукермана. Мои американские коллеги, чьи беллетристические упражнения я имел счастье почитывать в своем далеке, сделали бы это совершенно иначе, просветлив темные места и заполнив белые пятна. Что ж, им и перья в руки.
Юджин Кеттерер делал все, чтобы предстать передо мой своим парнем — покладистым, разумным, добродушным. Я называл его «мистер Кеттерер»; он звал меня Натаном, Натом, Нати. Натану, Нату, Нати мистер Кеттерер казался с каждым воскресным визитом все более отвратительным. Лидия от него просто бесилась. В таком раздражении я не видел ее ни при каких других обстоятельствах — ни дома, ни в университете; ничего подобного не встречалось и в ее сочинениях. Я просил Лидию сдерживаться; она в ответ кричала, что я принимаю сторону Кеттерера; потом, одумавшись, плакала и просила прощения. Мне, в общем-то, дела не было до тональности ее отношений с бывшим мужем. Я только не хотел, чтобы она превращалась в фурию на глазах у Моники. Но стоило Кеттереру появиться на пороге, как Лидия становилась зверьком, которого колют палкой, просунутой через прутья клетки. Уже на второе воскресенье я понял, что рано или поздно мне придется дать отпор отцу Моники, этому Большому Гену.
Но пока мы с Кеттерером окончательно не выяснили отношений, он искал во мне союзника. «Почему ты явился в два? — спрашивала Лидия — Мы ведь договаривались на пол-одиннадцатого утра!» Кеттерер оборачивался ко мне, разводил руками и говорил, как все понимающему родному брату: «Ох уж эти женщины». — «Идиотство! Кретинизм! — кричала в ответ Лидия. — Как такой мордоворот смеет рассуждать о женщинах? Или о мужчинах? Или детях? Почему ты привез ее так поздно, Юджин?» Он пожимал плечами и бубнил, глядя в сторону: «Не заводись», или «Хватит тебе», или «Ладно, Лидия, время назад не воротить». Или обращался ко мне: «Видишь, Нати? Вот оно как». Примерно то же самое повторялось воскресными вечерами, когда он приезжал за Моникой — либо слишком рано, либо слишком поздно. «Послушай, ну я же не часы. И никогда ими не был». — «Ты никогда ничем не был, потому что ты вообще ничто!» — «Да уж, я такой-сякой, зато ты — леди Годива. Без вас знаем». — «Ты садист, вот кто ты! Тебя нравится мучить меня, ну и бог с тобой. Но я не дам тебе мучить несчастного ребенка! Ты из года в год, воскресенье за воскресеньем издеваешься над нами! Ты — пещерный человек! Троглодит безмозглый!» — «Ладно, пора ехать, Гармошка, — такое прозвище он почему-то придумал девочке, — злой серый волчище повезет тебя домой».
У Лидии Моника целый сидела перед телевизором, не сняв шляпку, словно с нетерпением ждала, когда серый волк разлучит ее с любимой мамочкой.
— Моника, — говорила Лидия, — нельзя без конца таращиться в телевизор.
«Угу».
— Моника, ты что, оглохла? Уже три часа. Хватит на сегодня телевизора. Ты принесла домашние задания?
Не отрываясь от экрана: «Мои что?»
— Домашние задания на следующую неделю, чтобы мы позанимались?
Приглушенное бормотание: «Забыла».
— Но мы ведь договаривались! Я же говорила, что позанимаюсь с тобой. Ты сама не справляешься!
Резко: «Сегодня воскресенье».
— Ну и что?
Возмущенно: «Я что, и по воскресеньям должна заниматься?»
— Не смей так отвечать, прошу тебя. Ты и в шесть лет так не отвечала.
Сварливо: «А что такое?»
— Нельзя отвечать вопросом на вопрос. Папочкина манера… И пожалуйста, сядь нормально.
Злобно: «Я сижу нормально».
— Ты сидишь по-мальчишески. Если тебе нравится так сидеть, надень брюки. Или сиди так, как должна сидеть девочка.
Вызывающе: «Как хочу, так и сижу».
— Моника, давай повторим вычитание. Это можно сделать без тетради и учебника, раз уж ты их не принесла.
Умоляюще: «Но сегодня воскресенье!»
— Ты должна разобраться с вычитанием. Вот что тебе нужно, а не церковь. У тебя катастрофа с математикой. Моника, сними, наконец, шляпку! Я сказала, сию же минуту сними эту идиотскую шляпку! Уже три часа, ты что, весь день собираешься проторчать в этой шляпе?
Безапелляционно: «Моя шляпа — хочу и ношу!»
— Но это мой дом! А я твоя мать! И я велю тебе снять шляпу! Что за ослиное упрямство! Я твоя мать, Моника, и ты это знаешь! Я люблю тебя, а ты любишь меня! Помнишь, как мы играли, когда ты была маленькая?.. Сними шляпку, пока я не сорвала ее с твоей дурацкой башки!
Провокационно: «Только дотронься до моей головы, и я все расскажу папочке!»
— И не смей называть его папочкой! Не могу слышать, как ты называешь человека, который мучает нас обеих, папочкой! И сядь, как должна сидеть девочка! Ты что, оглохла? Сдвинь ноги!
Лживо: «Они и так сдвинуты».
— Нет, расставлены, и ты выставляешь всем напоказ свои панталоны. Чтобы больше этого не было! Ты уже не маленькая — сама ездишь в автобусе, ходишь в школу и, если уж носишь платье, должна вести себя соответственно. Нельзя все воскресенье сидеть у телевизора, раздвинув ноги, — особенно когда ты не знаешь, сколько будет два плюс два. Сколько будет два плюс два?
Философски: «Какая разница?»
— Большая! Ты можешь к двум прибавить два? Я хочу знать! Смотри на меня — я спрашиваю совершенно серьезно. Я должна выяснить, что ты знаешь и чего ты не знаешь, и с чего начать наши занятия. Сколько будет два плюс два? Отвечай.
Невнятной скороговоркой: «Актоегознает».
— Ты обязана знать! И говори четко, когда говоришь. Сколько будет два плюс два, отвечай!
Истерически: «Сказано же: не знаю! И отстань от меня!»
— Моника, а сколько будет от одиннадцати отнять один? Ну, отними от одиннадцати один. У тебя было одиннадцать центов, а кто-то забрал у тебя один, сколько осталось? Моника, дорогая, какое число стоит перед одиннадцатью?
Плаксиво: «Да не знаю я!»
— Знаешь!
Отмахиваясь: «Двенадцать».
— Ну откуда двенадцать? Двенадцать же больше, чем одиннадцать, а я спрашиваю, что меньше, чем одиннадцать. От одиннадцати отнять один — сколько получится?
Пауза. Размышление. Открытие: «Один».