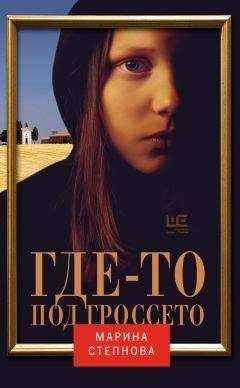Ознакомительная версия.
В животе ее, засыпая, тяжело толкнулся неясный ребенок, связь со слабым щелчком разъединилась.
И Галина Тимофеевна умерла.
Они влюбились с первого взгляда.
С первого вдоха даже – четко следуя модной теории о биохимии чувств. Сигнальные молекулы, нейромедиаторы, гормоны, торопливый, неистовый кровоток. Я люблю тебя. Я тебя обожаю. Прижать к себе, стиснуть до хруста, сделать частью себя. Переварить – жадно, медленно, без остатка. Ни с кем никогда не делиться. Неотвратимая физиология любви.
Вечерами выходили в сад с бутылкой вина, нашаривали в ночной траве абрикосы, еще теплые, напитанные долгим солнцем, и садились, прижавшись спинами к огромной сморщенной ноге эвкалипта. Подумать только, здесь растут эвкалипты! Подумать только, а если мы влюбились не разом, не вдвоем, не навсегда? Они качали невидимыми головами, ужасаясь. Тогда конец супружеству, маленькому чудесному приключению, которое они так берегли, конец «мы и они»: одному бы пришлось уехать, другому остаться, одному жить, другому… Горлышко бутылки звякает о зубы. Осторожно! Это же не совиньон? Нет, верментино. Вкусно, правда? Золотое, плотное, грустное вино. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Оба замолкали, понимая, что вся их маленькая человеческая любовь – ерунда по сравнению с тем, что сделала с ними Тоскана.
Вот, имя произнесено, и сразу стало стыдно и больно. Потому что ее, бедную, выставленную напоказ, прелестную, деревенскую, растащили на открытки, на статьи, растерзали по блогам. Каждый считает, что вправе ее любить – не только они. С этим совсем, совсем ничего нельзя поделать. Толпы туристов, шарканье ног, ор отвратительных голосов. Чужие руки. Жадные, глупые, неумелые. Страшнее и нестерпимее всего – конечно, соотечественники. Просто потому, что, к сожалению, понимаешь каждое их слово. Наташка, вино взяла? Да ну, кислятину эту, я в ней не разбираюсь! По деревенской продуктовой лавке (по их деревенской продуктовой лавке!) мчит, громыхая копытами, семейство. Пекорино брунелло, овальная даже на вкус моцарелла, кабаньи колбаски, порчини – мимо, читатель, мимо. В тележке подпрыгивают седые от ужаса свиные отбивные, картошка, ждущая часа, чтобы стать free. Красные шеи, могучая поступь, зычный рев. Самка проносится мимо рядов зеленоватого frizzante и хватает литровую бутылку польской водки. Самец отвешивает детенышам по гулкой затрещине – запускает педагогический процесс.
Зачем вы приехали сюда, гунны? Зачем топчете наш простодушный рай?
Герои мои переглядываются и, не сговариваясь, переходят на итальянский, пока ломаный, неловкий, но такой лакомый. Чур, прочь, отрекаюсь, отрекаюсь, отрекаюсь, даже от родного языка своего, от этого надоедливого сатаны. Будьте прокляты, соотечественники, изыдите! Провалитесь в свой уродливый ад, составьте компанию чете англичан, что сидели тогда – помнишь? помнишь, любимая? – по соседству с нами, в ресторанчике с видом на пинии и закат. Что они заказали? Две банки диетической колы, кружку пива и по гамбургеру на каждое свиное рыло. Видите, мы несправедливы ко всем, потому что сама любовь несправедлива! Беременная официантка, юная, глазастая, принесла нам целую миску мидий и бутылку Lacryma Christi и сказала, как равным: Ottima scelta. Отличный выбор! В выпуклом ее животе лежал, улыбаясь, маленький бамбино, мальчик, конечно, мальчик, счастливый только потому, что родится сразу в раю. Мы пили прозрачные горькие слезы Христа, собранные у подножия Везувия, и у них был подлинный вкус, вкус настоящей родины – той, которую выбираешь сам, а не той, в которой угораздило родиться.
В первый их приезд – случайный, как незаконное зачатие, – Тоскана была отчаянно недоступная. И немая. Совсем немая. Никто в деревне не говорил по-английски. Они бродили, разинув рты, схватив друг друга за руки, и каждую секунду боялись проснуться. Вокруг улыбались, шумели, компаниями усаживались подкрепиться – с младенцами над и толстыми лабрадорами под столом. Жестикулировали живо, будто дирижировали окружающей жизнью, но всё – мимо них, не для них, сами для себя. Даже местные коты не удостаивали их поглажкой, даже коты. Угрюмо смотрели через плечо и утекали в ближайшую солнечную подворотню. Сердитая старая итальянка выходила с лейкой на крыльцо дома, который помнил еще Микеланджело, в котором четырнадцать раз воевали, трижды умирали от чумы, но все-таки остались живы. Еще у ее деда была тут лавка. Ее прабабушка родилась вот за тем окном. В кантине тихо пылилось вино, которое откупорит на свадьбу внук ее старшего, самого любимого внука. Из пластмассовой лейки лилась витая золотая вода, поила цветы, не имевшие названия: горшки с ними выставляли напоказ, наружу, на улицу – уже для других. Не только для себя.
Мир сузился до острия, до точки, стал настоящим. Прежде завзятые путешественники, они нашли место, в котором невозможно было не остаться навсегда.
Но пришлось уехать.
Они вернулись через три месяца, потом еще и еще – на выходные, на денек, ну пожалуйста, хоть на минуточку. Самоучители, уроки, развешенные по всей квартире желтые липкие стикеры. На каждом – итальянское слово – как винная ягода, спрятавшаяся под шероховатым листом. Io sono. Io sono innamorato. Tu sei. Tu sei tutto per me.
На Рождество Тоскана заговорила. Сначала их признали коты, особенно тот, черный, разбойный, что жил у аптеки в городке, прелестном, крошечном, – его имя они не выдавали даже самым близким друзьям. Это был их городок. Больше ничей. Только их. Три улочки, четыре ресторанчика, бар, кафе, пять энотек, две ювелирные лавки. Кладбище. Всего на десять лет моложе Москвы. Однажды они столкнулись у входа в бар с известным российским режиссером, дерганым, похожим на крошечную дрянную копию дон Кихота: усы, бородка, свита из двух теток, брезгливое выражение лица. Она разрыдалась, как маленькая: пропал, пропал Калабуховский дом; он стиснул кулаки, хотел бежать, бить режиссеру морду, но морда уже скрылась, разочарованная, так и не понявшая ничего. Возвращайся в свое Forte dei Marmi, урод! Они выпили в баре по наперстку ристретто – стоя, как настоящие итальянцы. Было солнечно, всюду продавали крупный пористый миндаль и невероятные, праздничные, с не увядшими еще листьями мандарины.
Ну да, конечно же, – кот! Он заговорил с ними первый – утробно, низко завыл, заклокотал изнутри так, что они застыли: наверняка изорвет, вцепится, не признает, – но кот, тряся черными косматыми боками, подбежал и с размаху ткнулся башкой сперва в голенище ее замшевого сапожка, а потом – в его джинсы. Они в четыре руки кинулись его обнимать; из аптеки вышел, позевывая, молодой провизор, похожий на персонажа Феллини. Они давно поняли, что он был обычным документалистом, этот Феллини, веселый толстый пройдоха с лицом типичного тосканского крестьянина. Провизор спросил их о чем-то, они, не отпуская кота, ответили и уже не замолкали – до вечера, до счастливой одышки, до хрипоты. У провизора оказалось имя – Мауро, он был сыном толстушки Паолы из бара и собирался перебираться – со всей аптекой – в соседский город, на триста метров выше от уровня моря, от мамы, маммы мии. А знаете что? Приходите вечером в бар. Будет футбол.
И был футбол.
Прежде они никогда в жизни не смотрели футбол.
Всё, всё оказалось не так, как они себе воображали. В миллион раз лучше. С ними заговаривали старушки, требовавшие немедленно купить соседский дом, потому что он пустой, а мне нужны хорошие соседи. Вы же будете хорошие соседи? Будете косить траву? Семена от нее летят на мои клумбы. Племяннице старушки принадлежали обе ювелирные лавки, а муж племянницы сбежал на кладбище – негодяй, бросил девочку с тремя детьми, впрочем, что с него возьмешь? Француз, иностранец, на него с самого начала не было никакой надежды. Коренастый пузан, дружелюбный увалень с глуповато-хитрой физиономией, которого они принимали за нанятого из милости родственника, оказался хозяином их любимого ресторанчика. Массимилиано! О! Друзья! Он выходил навстречу, раскинув щедрые руки, помнил столик, который нравился им больше всего, вино, от которого она жмурилась и ахала, сам подавал тарелки. Черные трюфеля, оливковое масло, белая паста, солнечный свет.
Туристов на Рождество почти не было, местные сидели по домам либо разъехались по другим краям, которые отчего-то считали краше собственного. Рай для тех, кто живет в раю. Как отсюда можно было уехать добровольно? По утрам прямо к их окнам прилетал фазан. Важно сидел на ограде, соображая, что бы стянуть, они пытались соблазнить его пресным тосканским хлебом, но фазан, взмахнув целой радугой, медленно улетал, неискушенный. Единственное, что здесь было не идеально, – это хлеб. Но они были готовы обойтись без хлеба.
В канун рождества чуть похолодало – плюс десять градусов, легкий прохладный намек на приближающийся праздник. Они пошли выбрасывать мусор в одних свитерах – и по дороге встретили почтенную синьору в норковой шубе и на велосипеде. На руле – плетеная корзина. В “Conad” за покупками. Синьора неодобрительно посмотрела на тяжелый мусорный пакет у него в руках. Это была женская работа. Эту работу должна была делать женщина. Они засмеялись, помахали ей, но сеньора возмущенно застрекотала дальше, сверкая то спицами, то рыжим драгоценным мехом. Наверняка будет сплетничать с кассиршей, той черной, синегубой, увешанной бранзулетками, что ненормально оживлялась при виде каждого малыша. Зеленый пластиковый контейнер (называется “bidone”), в который сносил мусор весь городок, был с головокружительным видом на море, которое зимой просто рисовали на картоне, одной синей густой линией, всё темнеющей и темнеющей к горизонту, пока не наступали сумерки.
Ознакомительная версия.