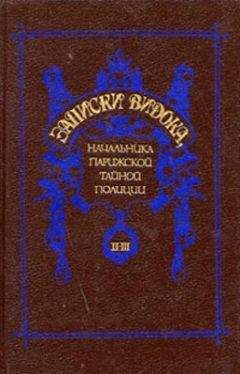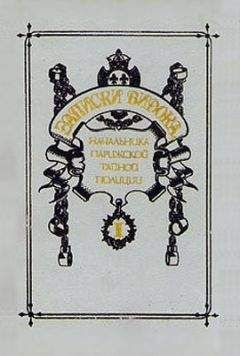Ознакомительная версия.
– Меня зовут Дюк, – говорю я (мне всегда нравился Джон Уэйн[14]).
– Дюк, – задумчиво, нахмурив лоб, шепчет она. – Дюк…
– Да, – подтверждаю я. – И я к вашим услугам. – «Сейчас и всегда», – добавляю мысленно.
Ее лицо вспыхивает. В глазах набухают слезы. У меня просто сердце разрывается, когда я вижу ее такой… Если б я мог хоть что-нибудь сделать!
– Простите. Совершенно не понимаю, что со мной происходит. Я ничего не помню! Даже вас. Когда слышу ваш голос, мне кажется, мы знакомы, но я не помню… Даже имя свое и то не знаю. – Жена вытирает слезы и просит: – Помогите мне, Дюк. Помогите вспомнить, кто я такая. Или на худой конец кем я была. Мне очень страшно.
Я тянусь к ней всей душой, однако называю ее чужим именем. Так же как минуту назад – себя. У меня есть на это причина.
– Вы – Ханна. Жизнерадостный человек и верная подруга. Вы – мечта и счастье, а также необыкновенный художник, что тронул сердца тысяч и тысяч людей. Вы прожили интересную, полную событий жизнь и ни в чем не нуждались, потому что все необходимое находили в своей душе. Вы добры и верны, умеете находить прекрасное даже там, где другие его не заметят. Вы – учитель красоты, мечтательница и фантазерка.
Я останавливаюсь на секунду, чтобы перевести дыхание. Потом продолжаю:
– Ханна, вам нечего бояться, потому что:
На самом деле ничто не потеряно,
да и как может быть потеряно
Рождение, или душа, или мысль —
ничто не пропадает в этом мире,
Ни жизнь, ни сила, ни все остальное…
А тело – старое, дряхлое, слабое, —
всего лишь
угли давнего костра,
…когда-нибудь он запылает вновь.[15]
Она задумывается над моими словами. В наступившей тишине я смотрю в окно и замечаю, что дождь перестал. В окно льется солнечный свет.
– Это вы написали? – спрашивает жена.
– Нет, Уолт Уитмен.
– Кто?
– Любитель и умелец облекать мысли в слова.
Она не отвечает. Просто смотрит на меня и молчит, пока наше дыхание не начинает звучать в унисон. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Глубокое, спокойное дыхание. Не знаю, чувствует ли она, как я ею любуюсь.
– Вы не могли бы побыть со мной подольше? – спрашивает она наконец.
Я с улыбкой киваю. Жена улыбается в ответ. Ласково берет мою руку и кладет возле себя на одеяло. С жалостью смотрит на узлы, что уродуют мои пальцы, и нежно поглаживает их. У нее-то до сих пор пальцы как у ангела.
– Идемте, – с трудом поднимаясь, говорю я. – Пора на прогулку. Воздух свеж, и птицы нас ждут. Сегодня прекрасный день.
Я смотрю ей прямо в глаза, и она краснеет. Прямо как в юности.
Конечно, она стала знаменитой. Ее называли одной из самых известных художниц Юга, и я всегда ею гордился. В отличие от меня, с трудом слагавшего даже самые простые строчки, моя жена творила красоту легко, естественно, как Господь создал когда-то Землю. Теперь ее работы висят в музеях всего мира, а я оставил себе только две. Самую первую и самую последнюю. Обе висят у меня в комнате, и вечерами я сижу и смотрю на них. И нередко плачу. Сам не знаю почему.
Так и шли годы. Мы жили полной жизнью – работали, творили, растили детей, любили друг друга. Я разглядываю фотографии: Рождество, семейные поездки, праздники, свадьбы. Веселые мордашки внуков. И мы сами – с каждой фотографией волосы все белее, морщины все глубже. Просто жизнь – обычная и необыкновенная.
Мы не предвидели такого будущего. Да и кто вообще может его предвидеть? Сейчас я живу совсем не так, как собирался. А как я собирался? Пенсия. Поездки к внукам. Путешествия. Жена всегда любила путешествовать. Нашел бы себе какое-нибудь хобби… Какое – точно не знаю, например, строил бы модели кораблей. В бутылках. Маленькие, изящные – с моими теперешними руками об этом и думать не стоит. Но я не ропщу.
Нашу жизнь нельзя судить по ее последним годам, в этом я уверен. Жаль, что я не догадывался, чем все закончится. Теперь кажется, что все было ясно с самого начала, а тогда я считал маленькие странности жены вполне объяснимыми и неопасными. Забыла, куда положила ключи… А с кем такого не случается? Не может вспомнить имя соседа? Так ведь не близкого друга. Иногда пишет неверный год на квитанции или чеке? Каждый может ошибиться, особенно если голова занята другим.
И лишь когда дела пошли совсем плохо, я заподозрил неладное. Утюг в холодильнике. Одежда в раковине для посуды. Книги в печке. Каждый день что-нибудь новое. А когда я нашел жену в трех кварталах от дома – она рыдала над проколотым колесом и понятия не имела, как ей вернуться обратно, – я в первый раз по-настоящему испугался. И она тоже. Когда я постучал в стекло машины, жена повернулась и сказала: «Господи, что же со мной творится? Пожалуйста, сделай что-нибудь». У меня все внутри похолодело, но я старался надеяться на лучшее.
Через шесть дней она пошла на прием к врачу, и ей сразу же сделали кучу анализов. Я не понял тогда, что это за анализы, да и сейчас не понимаю. Возможно, потому, что не хочу понимать. Она провела у доктора Барнуэлла почти час, а на следующий день пошла туда снова. Тот день показался мне самым длинным в моей жизни. Я просматривал журналы, не в силах читать, пытался разгадывать кроссворды, смысла которых не понимал. В конце концов врач вызвал нас обоих в кабинет, усадил перед собой. Жена держала меня за руку, и руки у нас дрожали.
– Мне очень жаль сообщать об этом, – начал доктор Барнуэлл, – но, судя по всему, у вас начальная стадия болезни Альцгеймера…
В глазах у меня потемнело, яркой казалась лишь лампа на потолке кабинета. Слова врача эхом отдались в голове: «Начальная стадия болезни Альцгеймера…»
Казалось, привычный мир рушится вокруг. Жена вцепилась в мою руку. «Ной… Ной…» – шептала она почти неслышно, будто самой себе.
Стены кабинета закружились, из глаз полились слезы, и в этом кошмаре остались лишь два слова: болезнь Альцгеймера.
Беспощадная болезнь, иссушающая и неумолимая, как пустыня. Похитительница душ, мыслей, воспоминаний. Я не мог придумать, чем утешить жену, которая всхлипывала у меня на груди. Только обнял ее и тихонько покачивал из стороны в сторону.
Врач тоже молчал. Хороший, добрый человек, он с трудом сообщал пациентам такие новости. Доктор Барнуэлл был младше самого младшего из наших детей, и в его присутствии я особенно остро чувствовал свой возраст. Мысли спутались, душа болела, а в голове крутилось:
Уж коли тонешь, вряд ли разберешься,
Какой по счету каплей захлебнешься…[16]
Слова мудрого поэта, они не утешили меня. Даже не знаю, почему эти стихи вспомнились именно тогда.
Мы покачивались туда-сюда, и Элли, мечта моя, моя единственная радость, шепотом просила у меня прощения. Я знал, что она ни в чем не виновата, и шептал ей на ухо: «Все будет хорошо», – а в душе у меня царил мрак. Я чувствовал себя пустым и помятым, как старая, брошенная шляпа.
Мозг с трудом улавливал какие-то обрывки из объяснений доктора Барнуэлла.
– Это заболевание, затрагивающее память и рассудок. Лекарство пока не найдено… Невозможно предугадать, каким будет развитие болезни… У всех она протекает по-разному… Я был бы рад сказать вам больше, но… С течением времени состояние будет ухудшаться… Мне жаль, что приходится вас огорчать…
Мне очень жаль…
Мне очень жаль…
Мне очень жаль…
Всем было очень жаль. Наши дети испугались за мать, друзья – сами за себя. Не помню, как мы вышли из кабинета врача и вернулись домой. И что потом делали, не помню, – здесь мы с женой едины.
С тех пор прошло уже четыре года. Мы попытались как-то устроить нашу жизнь. Элли сама так решила. Сдали дом и переехали сюда. Жена переписала завещание и оставила распоряжения по поводу похорон, они лежат у меня в столе, в ящике, в запечатанном конверте. А когда закончила с делами, засела за письма друзьям и детям. Братьям и сестрам, родным и двоюродным. Племянникам, племянницам и соседям. И мне.
Иногда, когда есть настроение, я перечитываю письмо Элли. И вспоминаю, как сама она зимними вечерами сидела у камина со стаканом вина и читала мои письма. Она все их сохранила, а сейчас письма вернулись ко мне, потому что я обещал жене их не выбрасывать. Она сказала: я сам пойму, что с ними делать. И оказалась права: мне понравилось перечитывать то одно, то другое, как это делала она. Письма подбадривают меня – когда я читаю строчки, написанные собственной рукой, то понимаю, что в любом возрасте можно испытывать и страсть, и нежность. Я смотрю на Элли, и мне кажется, я никогда не любил ее больше. А когда начинаю читать письма, обнаруживаю, что всегда чувствовал то же самое.
Последний раз я перечитывал их три дня назад, глубокой ночью. Около двух часов пополуночи я подошел к столу, открыл ящик и вытащил толстую пачку писем в пожелтевших конвертах. Снял резинку, которой тоже чуть не сто лет исполнилось, нашел конверты, которые спрятала когда-то мать Элли, и те, что я писал потом. В этих письмах – вся моя жизнь, вся моя любовь, все мое сердце. Я с улыбкой перебирал их, вынимая то одно, то другое, и наконец открыл письмо, которое написал в первую годовщину нашей свадьбы.
Ознакомительная версия.