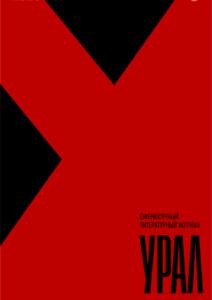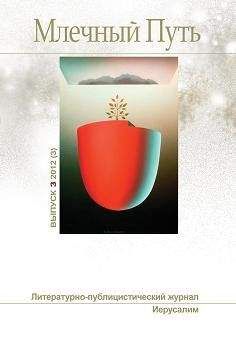Над головой в устрашающей близости зависли пять многоярусных люстр с тысячами разноцветных подвесок. На закругленных стенах, между венецианскими зеркалами в бронзовых рамах, помещались вызолоченные светильники, украшенные хрусталем и разноцветным стеклом. Все это светилось, играло, сияло. Интерьер турецкого отеля, подумал я. Создатель сего шедевра явно переборщил с зеркалами и прочей вычурной дребеденью. Нет, это не та красота, которая спасет мир.
Хотел бы я жить в таком дворце? Не знаю, вряд ли. Хотя… кто знает, что придет мне в голову завтра или послезавтра. Я человек непредсказуемый. В том числе для себя самого. Думаю, это мой козырь. Поясняю: если я сам не знаю, что буду делать завтра, то другие не знают этого и подавно. Если припечет, при известном везении это может принести выгоду, то есть может дать фору в несколько дней и в несколько тысяч километров.
Многочисленные зеркала отражали одно и то же. Адмиралов в полной парадной форме. Только и только адмиралов. Зеркала были переполнены бравыми адмиралами, одетыми совершенно одинаково и двигающимися с завидной слаженностью. Казалось, я был окружен высокопоставленными соратниками. Меня обступали десятки, сотни адмиралов. Я не чувствовал себя одиноким.
Я вложил в рот камушек и, вспомнив Демосфена, что есть силы гаркнул:
— Здесь адмирал Иван Федорович Крузенштерн, командир эскадренных миноносцев «Очумелый» и «Безапелляционный»! Эй, хозяин, выходи строиться!
Мой одинокий голос эхом разнесся по дворцу. Если меня записывают камеры, пусть запишут и это.
У меня возникло ощущение, что во дворце никого нет. По крайней мере — никого живого. Я еще раз прошелся взглядом по зеркалам.
— С ходу и не понять, какой из Крузенштернов настоящий, а какой поддельный… — пробурчал я себе под нос и, постукивая каблуками по дивному полу с подсветкой, направился к лестнице. Чтобы приободрить себя, я подкрутил искусственный ус.
Чем выше я поднимался, тем темнее становилось вокруг. На широкой площадке второго этажа уже царил полумрак. Я подошел к приоткрытой двери. Из узкой щели бил тонкий и длинный, как сабельное лезвие, лучик света. Я остановился и прислушался: за дверью рыдал тенор, выводивший серенаду Шуберта. Вернее, не всю серенада, а лишь малую ее часть, ибо патефонная игла сбоила, и голос неотступно твердил: «тихо в час ночной… тихо в час ночной… тихо в час ночной…» Если за дверью кто-то есть, у него, должно быть, стальные нервы.
— Я пришел сюда вовсе не для того, чтобы петь дуэтом! — рявкнул я и, смело распахнув дверь, шагнул в комнату. Шагнуть-то я шагнул, но тут же в изумлении замер, можно даже сказать, застрял в дверях. И было от чего!
В кабинете кто-то побывал до меня. Массивный письменный стол, мозаичный паркетный пол, сдвинутые с места стулья и кресла — все было завалено грудами изодранных в клочья бумаг с машинописным текстом и круглыми фиолетовыми печатями. Поверх одной из груд лежала Библия, открытая — мое вдруг обострившееся зрение отметило — на «Плачах Иеремии». Все было залито и выпачкано кровью. И кровью свежей. Кто-то опередил меня. Кто-то, кому, судя по обилию следов, не пристало работать чисто, аккуратно и красиво.
Конечно, самым разумным было без промедлений дать деру. Но, движимый какой-то неясной силой, я медлил. Я наклонился и поднял Библию. Я даже не сомневался, что мне предстоит прочесть. И точно… «Отцы наши грешили, — читал я, — их уже нет, а мы несем наказание за беззакония их». Это даже не мистика, подумал я, это закономерность.
Не выпуская книги из рук, я не торопясь обошел комнату, переступая через поваленные стулья и черные лужи крови. Где-то должен быть труп. Или трупы. Вон сколько кровищи! Вряд ли из одного человека может вылиться столько.
Но сначала надо отключить это окаянное «тихо в час ночной», не то я сойду с ума!
На стилизованном под старину электрическом граммофоне с поворотной трубой, потрескивая под иглой и волнообразно переваливаясь, вращалась виниловая пластинка. Я отвел в сторону иглу с мембраной, и звуки смолкли.
Я еще раз обошел кабинет. Около стола, рядом с перевернутым креслом, на спине лежал обезглавленный труп. Отрезанная голова расположилась рядом.
Насколько я мог судить, голова принадлежала мужчине примерно моих лет. Что-то знакомое почудилось мне в линиях носа, губ, лба. Где-то я видел это лицо. Нижняя часть головы была орошена застывшими каплями темной крови. «Уноси скорее ноги, идиот!» — завопил мой внутренний голос. Но тот же голос спустя мгновение призвал не торопиться: «Продолжай тщательно обследовать комнату».
Труп производил отталкивающее впечатление. Я не утверждаю, что все трупы должны выглядеть образцово-показательно — труп не произведение искусства и ему не место на венецианской Биеннале или в музее Прадо, но все же, все же, все же… Во-первых, голова. Небрежно отрезанная. Словно ее, не дорезав шеи, голыми руками вывинтили из туловища. На это указывали лохмотья кожи и неровные края порванной мышечной ткани. Топорная, неряшливая работа! Во-вторых, вспоротый живот, из которого, змеясь, на ковер вместе с кровавой кашей выползли разноцветные кишки.
Правое ухо отсутствовало. На месте уха зияла дыра, черная от запекшейся крови. Где ухо, неизвестно. Прихватили с собой? На память? Пальцы на руках трупа были отрублены и горкой сложены рядом с головой: кстати, единственное, что было сделано аккуратно и не вызывало нареканий и при иных обстоятельствах было бы, пожалуй, мной и одобрено. Повторяю, это было единственное, что было сделано аккуратно. Все остальное не выдерживало никакой критики.
Не исключено, что Бублика пытали. Хотели что-то выведать. Я еще раз посмотрел на изуродованное тело. Трупы приличных людей так выглядеть не должны. Ах, как прав был Корытников! Убийство просто обязано быть красивым!
Я продолжил осмотр. Сейф был вскрыт, — судя по тому, как он был раскурочен, — с помощью взрывчатки. Да и гарью попахивало. Итак, Бублика пытали, но он выдюжил и ничего не сказал. Поэтому сейф и взорвали. А голову открутили. Сколько же нужно было накопить в себе злобы, чтобы таким варварским способом разделаться с живым человеком!
Сейф был пуст. Я вздохнул: меня ждал нелегкий разговор с Корытниковым.
Оставаться далее не имело смысла. Но надо было на прощание что-то отчебучить, отколоть какой-нибудь номер. Я еще раз взглянул на мертвеца. И тут меня осенило. Двумя руками я крепко ухватил голову за волосы. Я не ожидал, что она окажется столь тяжелой. Пока я нес голову, держа ее за слипшиеся от крови волосы, мертвые глаза приоткрылись и — готов поклясться! — дружелюбно уставились на меня. Этот потусторонний взгляд меня позабавил. А что, если покойник наблюдает за мной с того света? Я бы не очень удивился, если бы мертвая голова разинула рот и предложила мне выпить. Тот, кто спустя какое-то время войдет в кабинет и натолкнется на этот взгляд, вне всякого сомнения, получит огромное удовольствие. При условии, что у этого кого-то есть чувство юмора и отсутствует страх перед отрезанными головами.
Голову я установил рядом с граммофоном, развернув целым ухом в сторону раструба, лицом — к двери. Сдвинул рычажок. Припадая и как бы прихрамывая на одну сторону, завертелась виниловая пластинка. Опустилась сапфировая игла с мембраной. Полилась изматывающая душу подпрыгивающая мелодия: «тихо в час ночной… тихо в час ночной… тихо в час ночной…» И тут меня осенило еще раз. Я опять сдвинул рычажок. Приподнял пластинку и под ней обнаружил то, что искал, — малюсенький ключ! Я рассмотрел его. Вот она, монограмма: латинская буква «В»! Это было невероятное везение. Моя любовь к шуткам на этот раз выручила меня. Лишний раз я убедился, что тот, кто вовремя поддается порыву, очень часто выигрывает.
Я опять передвинул рычажок, и на волю вырвался рыдающий тенор:
Песнь моя летит с мольбою
Тихо в час ночной.
В рощу легкою стопою
Ты приди, друг мой.
При луне шумят уныло