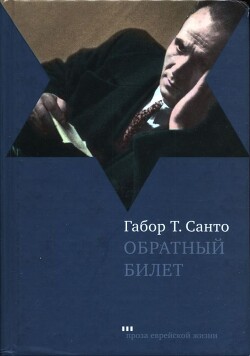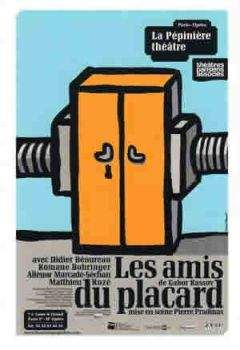В начале учебного года студентов на семинаре, как обычно, собралось довольно много; уже к середине первого семестра значительная часть их отсеялась. Но даже несмотря на то, что несколько оставшихся встречались регулярно, на семинаре не сложилось той доверительной, почти дружеской атмосферы, какая обычно характерна для отношений между преподавателем и студентами в таких маленьких коллективах и располагает к обмену мыслями и за пределами учебного материала. О будущем археологе З. не знал совсем ничего, и если с другими двумя у него все же возник какой-то личный контакт, то к археологу он испытывал лишь смутное недоверие. В течение года тот не проявлял заметной активности, и, хотя к экзаменам он готовился добросовестно, его постоянное присутствие на занятиях ничем нельзя было объяснить. Возможно, это просто моя болезненная подозрительность, успокаивал себя З., но невольно стал еще тщательнее следить за каждым своим словом, произносимым во время занятий.
На этом занятии получилось очень кстати, что девушка сама заговорила о следующей субботе, сообщив, что не сможет прийти. Ах да, вот хорошо, вы мне напомнили, хлопнул себя по лбу профессор, у меня ведь тоже кое-какие срочные дела, так что давайте перенесем нашу следующую встречу…
Его немного смутил испытующий взгляд девушки. В ее округлившихся глазах читалось: интересно, что за такие дела обнаружились у профессора. Но невысказанный вопрос ее остался без ответа; как, впрочем, остался бы без ответа, будь он и высказанным… Они договорились, что через две недели постараются найти удобный для всех день и час, чтобы наверстать пропущенное.
8
Утром в понедельник он на ходу сказал секретарше, жующей бутерброд, что конец недели проведет за городом, субботний семинар отменил, а если кто-нибудь станет его искать, пускай потерпит до понедельника. Секретарша, дама четкая и исполнительная, хотя и грубоватая немного, равнодушно кивала, двигая челюстями, и это слегка его отрезвило. Кажется, он излишне серьезно относится к конспирации. Кому какое, собственно, дело, если его два дня не будет?
Он вышел из здания филфака на улице Пешти Барнабаш и пешком отправился в университетскую библиотеку, где планировал работать всю эту неделю. Ему предстояло отредактировать для переиздания свою книгу по Древней истории, вышедшую почти десять лет назад. В читальном зале у него было свое постоянное место, там он и устроился.
За минувшие годы ему редко случалось написать что-то такое, чего он позже стыдился бы. Он не без оснований полагал, что если выбросить ссылки на Маркса и Энгельса, которые любой исследователь вставлял в свои работы столь же добросовестно, как и он, то ход его рассуждений от этого нисколько не пострадает и нормальный читатель все прекрасно поймет. Однако он часто испытывал потребность как-нибудь, чем-нибудь дополнить свой привычный способ смотреть на жизнь, способ, который, конечно, был для него органичен, как собственная кожа, и потому он не мог просто сменить его, как сменил в свое время одеяние раввина на пиджак и галстук. В одной из критических статей на его книгу этот способ видения был охарактеризован так: «Даже анализируя политеизм античных греков, автор не в состоянии освободиться от своих методов, скажем даже, пристрастий, которые подходят для монотеистических религий». Поэтому З. так старательно обходил ту область своей научной деятельности, в которой специализировался до тысяча девятьсот сорок девятого года; более того, избегал даже в сносках ссылаться на свои публикации того времени. И поэтому так упорно — может быть, слишком упорно — держался за цитированные-перецитированные марксистские источники, за идеологические аргументы исторического материализма, поэтому неоднократно утверждал, что отдельной истории религии нет и не может быть, что сфера эта «может исследоваться лишь в контексте общей истории развития общества и общественного сознания».
Ему казалось, от него ждут чего-то большего, что он должен высказывать мнение более открыто и однозначно; поэтому он последовательно отступал в этом вопросе, пересматривая свои прежние взгляды. Он знал, что не прав, но не обижался на критиков: ведь они отстаивали как раз ту позицию, которую он и стремился занять. Во всяком случае, эти свои работы он бывшему коллеге в Школу раввинов уже не посылал; а с начала шестидесятых годов, когда его избрали действительным членом Академии наук, ни разу больше не выступал с ним в соавторстве; да и тот, если им случалось столкнуться где-нибудь — например, в бассейне, — тактично не заводил речь о его последних научных достижениях…
Сейчас, сидя в библиотеке, он никак не мог сосредоточиться на работе. В голове постоянно крутилась мысль: если кто-то, кто-то такой, кому он не может ответить, как не может ответить себе самому, — если этот кто-то спросит его, как объяснить столь резкий поворот в его мышлении, в его жизни, — то где он возьмет объяснение? Он нервничал. Чувствуя, что работа не идет, он погасил настольную лампу, откинулся в кресле и закрыл глаза. Сидя, он слегка покачивался вперед-назад, вперед-назад. Так с ним бывало всегда, когда он, впав в рассеянность, забывал следить за собой. Но факт тот, что ритмичные, едва заметные движения тела помогали ему успокоиться.
Да нечего тут объяснять, вспомнился ему бывший коллега по Школе раввинов. «Ты — не Элиша», — прозвучали в голове слова… Значит, тот все-таки счел возможным сравнить его с еретиком, отрицающим Бога. З. вспомнил, что пишется в Талмуде: «И все это откуда у него?.. Оттуда, что он видел язык рабби Иегуды Пекаря, в пасти пса, который как раз лакал кровь. Он сказал: это Тора, и это ему награда?! Это язык, который произносил слова Торы так, как нужно?! Это язык, который каждый день трудился над Торой?! Это Тора, и это его награда?! Стало быть, нет правды в мире и нет возмездия после смерти». Фразы эти всплыли из глубин его сознания вдруг и сразу, будто он читал Талмуд ежедневно.
Подобно Элише, он тоже утратил веру. Вот только если бен Абуя, переживая после учиненных Адрианом преследований глубокий душевный разлад, пытался других убедить, что нет смысла жить по Закону, то он, З., сделал этот вывод только для себя самого. И все же, читая лекции студентам, публикуя научные труды, он, плохо ли, хорошо ли, распространял, передавал эти свои взгляды и другим, да и его личная жизнь служила в этом смысле неоспоримым примером; так он то оправдывал, то обвинял себя. Если Бога нет, если есть только мир, если есть только человек и его беспредметная вера, то именно так и следует умножать и передавать это знание далее, ибо оно сделало мир таким, а значит, только владея им, можно и нужно жить, ориентироваться, находить себя в этом мире.
Он знал: многие до сих пор уверены, что от еврейства он отвернулся исключительно из карьерных соображений. Если бы в нем оставалась хоть частица той веры, того сознания своей миссии, которые пылали в нем до войны, едва ли он был бы способен совершить такой поворот. Но несколько лет метаний и поисков, несколько лет работы, выполняемой без убеждения, показали: нет, не идет, не получается, да и не может получиться. После того как вера его была уничтожена, он логическим путем хотел свести счеты с Богом, который бросил свой народ в беде, который позволил убить миллион невинных детей. В том числе его детей: сына и дочку… Он ненавидел слово «Холокост», которым с удовольствием пользовались западные историки в своих работах об истреблении евреев. Его коробило от этого выражения, в точном значении которого, «жертва всесожжения», для него существенную роль играло лишь то, что с его помощью послевоенное поколение в отчаянии своем пытается придать некоторый смысл простому множеству страшных фактов, ибо оно, это поколение, неспособно посмотреть в лицо реальности, не смеет заглянуть в темную бездну, что зияет в душе человеческой. Оно, это поколение, обманывая себя, пытается найти катарсис в механическом движении конвейера истории, где нет и намека на искупительное прозрение, на очищение. Смысл священной жертвы — в том, чтобы добиться от Бога прощения за грехи; но разве можно представить такой человеческий грех, во искупление которого Всевышний потребовал бы миллион детских смертей? Следовательно, существующий Бог не может иметь к этому отношения.