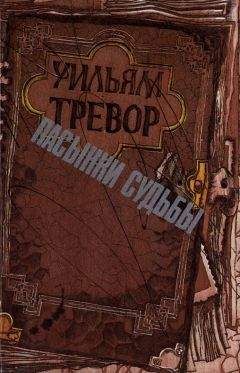— Фу, какая мерзость, Ринг! Мы же договорились, что ничего такого и в помине не было. И почему ты так гадко хихикаешь? Что тут смешного? Квинтон, ты понял шутку Ринга?
— Нет, сэр.
— Мне в жизни не доводилось видеть более глупого мальчика, чем ты, Ринг. Непроходимый тупица.
— Я просто хотел…
— Скажи, у тебя есть призвание, Ринг?
— «Призвание», сэр?
— Кем ты собираешься стать, когда вырастешь?
— У моего отца лимонадная фабрика в Дублине, сэр.
— Я знаю, что твой отец делает лимонад. А чем займешься ты?
— Тем же, сэр.
— В таком случае, Ринг, я твой лимонад пить не стал бы.
— Он совсем не так уж плох, сэр.
— Не дерзи мне, Ринг, а то я тебя накажу. — Тут лиловое лицо директора повернулось ко мне, и он, на этот раз несколько более снисходительно, спросил: — А у тебя какое призвание, Квинтон? Будешь ветеринаром?
— Вы, кажется, спутали меня с Данревеном, сэр.
— Ах да, верно. У тебя ведь мельница, а? Под Фермоем?
— Да, сэр.
— Не дружи с кем попало, Квинтон. Как говорится, семь раз отмерь… Декурси?
— Сэр?
— Какое призвание у тебя, Декурси?
— Театр, сэр.
Мистер Сперм качнул головой:
— А ты никогда не думал о том, чтобы стать школьным учителем, Декурси?
— Я вряд ли гожусь для этого, сэр.
— Кто знает, кто знает. Помни, Декурси, долг — превыше всего. Что ж, я рад, что у нас состоялся этот разговор.
— И мы тоже, сэр.
— Итак, Уилтшир Мейджер сделает объявление, содержание которого мы с вами только что обговорили. Дов-Уайту извольте передать, чтобы он вас наказал за выход из спальни в ночное время. Извинитесь перед мистером Маком и постарайтесь загладить свою вину. Извольте извиниться перед моей супругой. Когда Уилтшир Мейджер будет зачитывать объявление, извольте встать рядом и, когда он кончит, извиниться перед ним за доставленные хлопоты. Извинитесь также перед сестрой-хозяйкой и младшей сестрой, совсем еще молоденькой девушкой, которую наверняка вогнали в краску ваши гнусные сплетни. Придется извиниться и перед служанками, среди них тоже есть молодые женщины, а также перед дежурным старостой. Говорить будешь ты, Квинтон. А ты, Ринг, передашь Дов-Уайту, чтобы он наказал тебя еще и за дерзость. Ну-с, будем считать, что инцидент исчерпан. Я рад, что мы обо всем договорились.
Когда мы выходили, маленькая синяя лампочка над дверью, которую мистер Сперм зажигал, не вставая из-за стола, потухла. Когда лампочка горела, это означало, что директор занят и заходить в кабинет строго воспрещается. Обыкновенно лампочка загоралась, если за дверью секли розгами или же шли занятия закона божьего, которые мистер Сперм любил проводить у себя в кабинете. Радуясь, что легко отделались, мы бросились бежать по длинной галерее, соединявшей дом директора со зданием школы. Ведь мы боялись, что директор даже не станет нас слушать, и настраивались, несмотря на воскресный день, на серьезный нагоняй.
— Он сказал, чтобы вы нас наказали, — доложил Ринг, входя в комнату Дов-Уайта.
— Это еще за что?
— За то, что мы стали свидетелями гнусного поступка, сэр. Пьянство — это бич, сэр.
Поставив на огонь воду и заварив чай, Дов-Уайт сказал, что со времени основания школы в 1843 году не было, пожалуй, более отрадного события, чем то, что произошло этой ночью, и это при том, что наказан Маньяк был человеком, от которого сам Дов-Уайт нас так предостерегал. Тут в комнату вошел мальчик и объявил, что нас вызывает мистер Мак. «Только этого не хватало!» — вырвалось у Ринга, и мы поплелись в кабинет учителя математики.
— Директор передал мне ваши россказни! — сразу же заорал на нас Маньяк, пребывавший в крайнем бешенстве. — Во всем этом нет ни слова правды, слышишь, Декурси!
— Директор…
— Не было никого на пожарной лестнице! Верно ведь, Квинтон? Отвечай, Квинтон!
— Был человек в костюме, сэр.
— Это гнусная ложь, Квинтон.
— Возвращаясь из уборной, Декурси выглянул в окно, сэр…
— Это вы сами забрались на пожарную лестницу и учинили нечто непотребное!
— Мы никогда бы не посмели, сэр, — пытался возражать Декурси.
— Мы сказали правду, мистер Мак, — сказал Ринг, — и мистер Дов-Уайт наказал нас только за то, что мы покинули спальню в ночное время.
— Ты плохо кончишь, Ринг.
— Вы ошибаетесь, сэр, — возразил Декурси. — У Ринга будет лимонадная фабрика. Директор интересуется будущим Ринга, сэр.
В воздух взвилась костлявая рука, и тонкие пальцы неуловимым движением дважды хлестнули Декурси по налившейся кровью щеке. Маньяк отвернулся, а затем, помолчав, надтреснутым голосом спросил:
— Кто ж это был, если не вы?
— Уволенный учитель географии, — ответил Декурси.
Воцарилась гнетущая тишина: Маньяку в отличие от мистера Сперма нечего было возразить.
— Это был жуткий тип, — тем же надтреснутым голосом выговорил наконец Маньяк.
— Он сидел в тюрьме, — сказал Декурси.
— И поделом.
Отвернувшись, Маньяк Мак велел нам выйти, а к вечеру, не стерпев унижения, навсегда покинул школу. Ушел он, ни с кем не попрощавшись, чем всех нас совершенно потряс. Три недели у нас не было математики, а затем в школе появился какой-то живчик в галстуке, выписанный мистером Спермом из Линкольншира.
Время шло, продолжалась моя переписка с отцом Килгарриффом, в школу приходили письма от тети Фицюстас и тети Пэнси, а однажды пришло письмо из Индии — дед с бабушкой интересовались здоровьем матери. «Мы подумали, — говорилось в конце письма, — что тебе с мамой хорошо было бы переехать сюда, в Масулипатам, подальше от всего, что произошло». Однако в ответном письме я никак не отреагировал на это предложение, поскольку знал, что ни матери, ни мне жить в Индии не хочется. Джозефина писала мне регулярно, а мать больше ни разу. Однажды вечером, после отбоя, я поймал себя на том, что опять перебираю в памяти трагические события той ночи.
На Рождество и на Пасху я приезжал в Корк на три недели, а летом — на два месяца. Я читал Диккенса, Джордж Элиот, Эмили Бронте; ходил, как и раньше, по поручению Джозефины в магазин миссис Хейс, представляя себе — хоть и не с той горечью, — как бы мои сестры изобразили старуху и ее сына. Я по-прежнему много читал, бродил по улицам, стоял у причала.
— Ни строчки не написал, — выпалила мисс Халлиуэлл. — А ведь обещал. — Мы столкнулись на оживленной улице возле Манстер-Аркейд, откуда она совершенно неожиданно вынырнула. С тех пор как я перестал ходить в Образцовую школу на Мерсьер-стрит, мы не виделись ни разу.
— Простите, мисс Халлиуэлл.
— За столько лет — и ни одного письма. Твоя мать, Вилли…
— Мама в порядке.
— Вы все еще живете на Виндзор-террас, Вилли? В Фермой так и не вернулись?
— Нет, не вернулись.
— И правильно. Не надо туда возвращаться, Вилли. Тебе будет там тяжело.
— У меня все хорошо, мисс Халлиуэлл.
— Никогда больше не езди туда. Ты хоть раз бывал там с тех пор, Вилли?
— Нет.
— Живи лучше здесь, в Корке. Знаешь, я ведь часто тебя вспоминаю.
— Мисс Халлиуэлл…
— Вилли, я угощу тебя чаем. Хочешь, пойдем в кафе Томпсона?
— Мне пора домой.
Я ушел, а она осталась стоять: все то же коричневое платье, из родинки на подбородке торчит волосок. В письмах к тете Пэнси и тете Фицюстас я по-прежнему аккуратно извинялся за то, что мать отказывается принять их. Недавно мне снились рододендроны и ведущая на мельницу тропинка, и наутро мне ужасно захотелось в Килни.
— Вилли! — каким-то надрывным, пронзительным голосом крикнула мне вслед мисс Халлиуэлл, но я даже не обернулся.
В день, когда состоялась эта встреча, я прибрался в саду, надеясь уговорить мать посидеть на воздухе. Я купил мотыгу и прополол клумбы. У соседей я взял газонокосилку, но трава была слишком длинной и жесткой. «Без серпа тут не обойтись», — сказал сосед, одолживший мне газонокосилку, сам пришел с косой к нам в сад и скосил траву. Про мать он знал. Теперь про нее уже все знали.
— Сегодня солнечно, — уговаривал я ее. — А тебе солнце полезно. — Она лежала в постели и улыбалась. Было еще рано, но я знал: стаканчик виски она уже пропустила.
— Пойдем погуляем, — сказала она, сделав вид, что про сад даже не было разговора. — Погуляем, а потом пообедаем в отеле «Виктория».
Она надела свое выходное черно-красное платье, шляпку в тон, приколола камею, раскрыла зонтик от солнца. Улыбка все это время не сходила у нее с лица.
— Как ты похорошел, Вилли, — сказала она, взяв меня на улице под руку.
Жмурясь от солнца, мы спустились с холма Святого Патрика и перешли через мост. В отеле «Виктория» я не был с тех пор, как мы пили там чай, однако за это время ничего не изменилось, Мать заказала вино и еду. Ела она очень мало: поковыряла камбалу вилкой. Мы пили рейнвейн и бургундское.