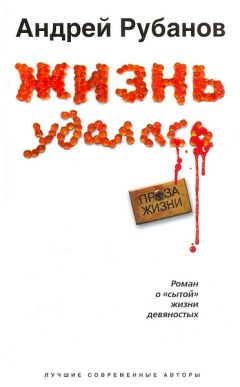— Иногда я чувствую боль.
— А чего ты ждал? Когда ты родился, тебе тоже было больно. Ты появился на свет в результате длительного процесса. Девять месяцев созревал в материнской утробе. Неужели ты думаешь, что смерть — менее короткий и сложный путь? Это долгая дорога. Один этап сменяет другой. Сначала все смеются. Наслаждаются. Но это быстро проходит. Потом многие горюют. Особенно молодые. Для стариков — тех, кто при жизни подготовился, — все проходит сравнительно безболезненно…
Матвей подумал и спросил:
— Скажи, кто ты?
— Сам решай.
— Ангел?
— Пусть будет ангел. Или — бес. В данном случае это несущественно. Я — часть тебя. Я — это парашют, смягчающий удар. Ты, как всякий другой живой, носил этот парашют в себе всю жизнь, ничего о нем не зная. И вот — в момент смерти он тебе пригодился. Смягчил удар…
— Как мне тебя называть?
— Любым именем.
— А как ты сам себя называешь?
— Никак. Я пробуду рядом с тобой недолго. Как только ты адаптируешься к своему новому состоянию — я исчезну. И ты забудешь обо мне.
— Все равно я не верю, — повторил Матвей, удивляясь собственной отваге. — Я не умер. Разве это смерть? Это аттракцион! Если я умер, почему мне было так весело?
— Потому что ты — отмучился, — мягко прозвучало в ушах. — Это живые плачут. А мертвые в основном веселятся.
— Я не умер, — тупо повторил Матвей. — Я живой! Я не верю!
Вместо ответа повисла пауза.
— Что надо сделать, чтобы ты поверил? Может быть, желаешь посмотреть на то, что от тебя осталось?
Мрак перед глазами Матвея стал редеть, проступили очертания стен, мебели, медленно задвигались в полутьме две бесформенные фигуры, — третья неподвижно покоилась на диване у стены: рыхлое, неестественно изогнутое тело, скрюченные пальцы сжимают край простыни. В лежащем Матвей угадал себя, в двух других — Никитина и Кактуса. Грузный депутат, закрывая и открывая воспаленные глаза, мелко тряс головой, его приятель выглядел более спокойным и даже курил сигарету.
Деловито-угрюмые выражения их лиц возмутили Матвея, и он сказал:
— Что-то они не выглядят сильно расстроенными.
— Это потому, что они не сильно расстроились.
— А кто лежит? Я?
— Угадал.
Матвею стало неуютно и очень захотелось назад, в мерцающую комфортабельную пустоту, где минуту назад он хохотал во все горло. Мир живых показался ему тусклым, плоским и мрачным.
— Приблизься, — услышал он. — Взгляни на себя.
— Нет! — крикнул он в панике. — Я не хочу. Не надо.
— Взгляни. Тебе полезно. Совсем недавно это был ты, еще живой.
Матвей всмотрелся. Лежащий на диване мертвец был желтый и неопрятный, голова свесилась, торчал острый подбородок, приоткрытый рот оскален, волосы прилипли к мокрому лбу.
— Спасибо, я понял.
— Ничего ты не понял. Ты только что смеялся — теперь плачешь…
Усилием воли Матвей почти справился с собой и признался:
— Мне себя жалко.
— А вот жалеть себя не надо. Ни живому, ни тем более мертвому не следует себя жалеть. Запомни: если есть что-то хуже смерти, — то это жалость к самому себе. Ты умер, для тебя все закончилось — о чем жалеть? Лучше — их пожалей. Живых.
Матвей посмотрел на живых. Никитин теперь отошел в глубь помещения и упал, как бы без сил, в кресло, смотрел в пол. Связанные на животе рукава халата забавно болтались. Кактус же, неторопливо докурив и аккуратно затушив сигарету в огромной пепельнице, с чрезвычайным спокойствием отнес эту пепельницу в угол, опрокинул над мусорной корзиной, поставил на стол, с этого же стола взял резиновые медицинские перчатки, привычно натянул, склонился над лежащим. Поднял его голову и положил на подушку. Оттянул темное веко, взглянул.
— Что он делает? — спросил Матвей.
— А какая тебе разница?
— Послушайте, это же мое тело.
— Ты умер. Зачем тебе тело? Что там, в этом теле? Сердце с признаками ишемической болезни? Отравленная печень? Черные от никотина легкие? Это не тело, а помойка. Забудь о нем. Не жалей себя. Жалей живых. У них много хлопот. А у тебя впереди вечность.
— Что со мной будет дальше?
— Не спеши. Скоро все узнаешь.
В пятнадцать лет она подралась. Из-за мальчика. С одноклассницей. В полном соответствии с канонами жанра.
Повод был законный: классная руководительница — у нее часто случались приступы любви к дисциплине, она преподавала немецкий язык и подсознательно во всем стремилась к абсолютному орднунгу — решила рассадить детей по лично составленному списку. Мальчик — с девочкой; успевающий — с неуспевающим. Хулиганы и балбесы — на передние парты, хорошисты и прочие мирные агнцы — на галерку. Мальчик Марины (ладно, не совсем ее мальчик, она с ним и не целовалась даже, но считала своим, поскольку в восьмом классе уже положено иметь своего мальчика) очутился по соседству с белобрысой зубрилой, дурой, гадиной и сучкой, тут же начавшей хихикать и строить глазки, как будто только сейчас познакомились; еле высидев урок, Марина вознамерилась разобраться. Она не любила, когда покушаются на то, что ее. Она никогда не считала себя хищницей, но свое предпочитала крепко держать в руках.
На перемене улучила момент, когда врагиня пошла в туалет, собралась с духом — и влетела следом.
Тут же стояла и степенно покуривала девочка из десятого, гордость школы, мастер спорта по синхронному плаванию, — но Марина, нимало не смутившись присутствием нежелательного свидетеля, толкнула обидчицу обеими ладонями в плечо, и та, поскользнувшись на мокром кафеле, едва не упала. Обменялись обидными воплями и сцепились. Обе не имели ни силы, ни ловкости, уроками физкультуры, как было принято, пренебрегали, и побоище вышло неловкое. Собственно, вообще не вышло. Марина отвесила дуре пощечину и получила в ответ портфелем по голове, с размаху, плашмя, сверху вниз. В момент удара металлическая пряжка замка выскочила из скобы и глубоко разодрала Марине кожу на лбу. Хлынула кровь, Марина увидела себя в зеркале — туг же пол ушел из-под ног, встал вертикально, она потеряла сознание, ослепленная яростью соперница бросилась добивать, но мастер спорта вовремя подоспела и сильными руками пловчихи остановила драчку.
Вызвали родителей. Директор даже предложил сообщить в милицию — все-таки нанесены телесные повреждения, — но папа Марины полжизни прожил в фабричном предместье столицы, где почти половина взрослых мужчин имели судимости и придерживались соответствующих норм поведения, в соответствии с которыми обращаться в органы внутренних дел было западло. Папа отказался наотрез. Историю замяли. Белобрысая врагиня перевелась в соседнюю школу, и ладно, ее никто не любил. Мальчик, чью благосклонность оспаривала Марина, некоторое время стеснялся и гордился, а потом надоел.
Рана на лбу зажила, остался шрамик, — скорее, даже отметина, вертикальная розовая стрелка над левой бровью, обычно еле заметная, но темнеющая и проступающая красным в моменты сильного волнения.
Был период — шестнадцать лет, — когда Марина не могла видеть себя в зеркале, страдала, изобретала закрывающие лоб прически и собиралась идти в институт красоты. Ей казалось, что на внешности надо поставить крест и уйти в монастырь. Ну, не в монастырь, конечно — но о мальчиках придется забыть.
Ну и черт с ними, мальчиками, говорила себе шестнадцатилетняя Марина, все равно — дураки.
Мальчики не занимали в ее жизни главного места. Однако не занимали и последнего. А занимали нужное, им отведенное. Вообще, все вокруг Марины уравновешивалось и расставлялось по местам само собой — а может быть, сама она просто не придавала большого значения правильной расстановке. Она жила в центре столицы трехсотмиллионной страны, где все было уравновешено и прочно установлено на свои места задолго до ее рождения. Внутри Садового кольца тротуары всегда сияли чистотой, брюки милиционеров были отутюжены, кустики грамотно взращены, и здешние обитатели воспринимали всю страну, планету и Вселенную как нечто крепкое, упорядоченное, безопасное и не лишенное эстетики.
Упорядоченность, правильность и очевидная предопределенность миропорядка позволяли юной девочке со шрамом никак не беспокоиться о своем будущем. Куда и зачем стремиться — и так живу нормально. Не просто в Москве, а с видом на парк Горького. К чему переживать о выборе профессии, если все зарабатывают одинаково, по сто сорок рублей: и папа-инженер, и мама-экономист, и все родители всех подруг, независимо от рода занятий? Окончу школу, пойду куда-нибудь работать, выскочу замуж — и будет у меня, как у папы с мамой.
Правда, существовал рядом с ней другой мир. Там катались на больших черных машинах сыновья и дочки министров, народных артистов, академиков и приближенных к ним ловкачей — фарцовщиков, катал и прочих прохиндеев. Там носили американские джинсы, пили французские коньяки, листали немецкие журналы, гуляли в ресторанах и смотрели запрещенные фильмы. Но в этот мир Марина боялась соваться или даже брезговала, она была гордая, она чувствовала, что там все не ее. А она хотела свое, и только свое.