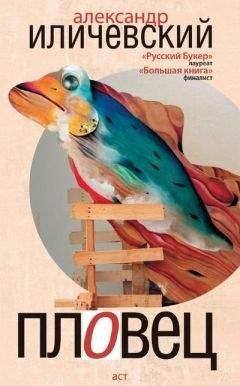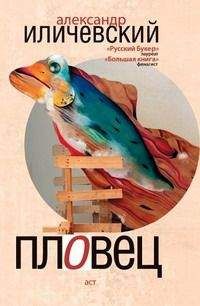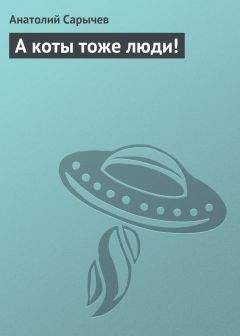В общем, чем дальше, тем глуше — как в сказке.
Колесим мы, значит, по центру на кумачовом «понтиаке» — девки на нас с тротуаров заглядываются, парни оборачиваются. Наше счастье — пробок ни одной, есть где с ветерком раскатиться. И мне езда очень нравится — полгода хожу пешком, деньги на такси экономлю. Устроился поудобней — бутылку свою в рукав чуть передвинул, чтоб не выпала, и стекло на всю спустил — глаза с удовольствием подставил встречному ветру.
Барсук сначала вздремнул, потом приободрился, стал хулиганить: высунется на светофоре перед какой-нибудь пешеходной бабенкой — и то песню орет ей про княжну Стенькину, то «Облако в штанах» декламирует. Кричит-рычит:
— Мар-р-рия! Дай! Не хочешь?! — Ха!
Женщины от его рожи справедливо шарахаются, а он им вдогонку: «У-у-у!» — и ладошкой по юбке — хлоп, словно ловит муху в кулак.
Короче, поколбасились мы так по улицам еще минут двадцать и прикатили куда-то на Знаменку. Выходим. Там опять та же охрана — встречает. Все трое тут как тут — как на часах, разве что не тикают.
Поднялись в офис. В нем пусто, компьютеры пылятся на столах, вверху пропеллер гнутый вертится, препинаясь, как во сне. На мониторе одном бюстгальтер, будто прапор переговорный выставлен. И кот здоровенный рыжий по подоконнику пляшет на задних лапах: за жалюзями мух мутузит по стеклу.
В углу громоздится сейф, и радио над ним надрывается:
— Пусти, пусти, Байкал, пусти!
Я и смекнуть не успел, старший Петька пошуровал на коленках что-то под сейфом, дверца — прыг, а там — елки-палки: денег как грязи! Мама миа… Доллары — баррикадами, марки — развалом, а рубли — вроде как мусор: сверху ими все припорошено.
Вдруг радио над сейфом прохаркалось, тишиной немного пошуршало, да как выдаст:
— Дорогие братья и сестры!..
Тут Барсук опять протрезвел — шмыг прямо к сейфу, радио щелк и — цап-царап, цап-царап — пачечки распихивает по карманам: две себе положит, а третью передаст напарнику, что еще с колен не встал. Когда набрал норму — хлоп дверцей, и шасть к моей милости — сует мне в нагрудный карман кипу и прихлопывает, чтоб оттопыривался поменьше.
А я:
— Извините, ни к чему мне эти фантики. Спасибо, — говорю, — возьмите, пожалуйста, обратно, — и ему в карман все дочиста перекладываю.
Тут Барсук опять обмаслился да как заорет, полез обниматься:
— Наш, наш, Петька, мальчик! Я ж говорил, нашенский он, ты не верил!
Короче, дальше был уж полный швах.
Повели они меня во все тяжкие. В Дома журналистов, литераторов, киноактеров и композиторов — по ресторанам море пить. И всюду-то их знают, всюду-то их у дверей по мановенью охраны встречают, усаживают за столики, подвигают стулья, тут как тут несут семужку норвежскую с кухни, на пробу посола… Однако лично на меня халдеи как на собаку поглядывают: будто я хуже Петек. Да и то правда: ведь на дармовщинку-то с хозяевами жизни путешествую… Но посмущался я недолго — и расстраиваться плюнул: сам себе на уме буду, а на ресторанщиков чихать — плебс как-никак, какой с них толк-то?
Ну и натрескался тогда Барсук наш! Мне его аж жалко стало. После последнего номера — в Доме композиторов, где он Шнитке пытался девке какой-то на бюст намурлыкать, — блеванул-таки на выходе.
Притом — ладно бы, если бы так просто стошнило: подумаешь, человеку стало дурно от живота. Но ведь вышел еще больший конфуз при этом. С Ростроповичем.
Он, оказывается, в эту самую минуту, как подались мы из ресторана, — из аэропорта на Родину возвращался впервые. Из Шереметьева должен был с женой-певицей и делегацией встречающих заехать на Новодевичье кладбище — поклониться Шостаковичу. А после — в родные пенаты. Вот его здесь, у выходато, и ждали. Ему квартиру в доме Союза композиторов вернули перед приездом — и подготовили встречу с митингом.
Как раз мы из ресторации выходим — чтоб пройти к Центральному телеграфу, где машину с водилой оставили. А тут — фу-ты ну-ты — толпа на выходе жужжит и куражится: дамочки в декольте бижутеревых, мужики-пиджачники — по всему видать, композиторы — смолят трубки, подбоченясь, гривы правят пятерней. Плюс — официантики в жилетках бегают с мельхиором и богемским на руках — шампань разносят, репортеры пробуют вхолостую вспышки; а над подъездом висит лозунг — голубым по простынке белой: ГАЛЕ И СЛАВЕ — СЛАВА!
Прямо свадьба какая-то. Я аж оглянулся — шаферов поискал…
Тут Барсук, как все это увидал — ка-ак блеванет на поднос разносчику — тот обалдел: стоит, как закопанный, и даже не мыслит отряхнуться. И я стою, бутылку свою плечом наружу подвигаю — думаю, как начнут бить, так хоть ей оборонюсь, чтоб совсем не забили.
А Барсук тем временем отплевался и как завопит:
— Люблю Шостаковича! У-у-у! Пятую! Давай симфонию! У-у-ю! Всем — лож-жись! — смир-рна! Пятую давай! Давай Пятую! У-у-у! Хочу плакать! Су-уки, плакать хочу!..
В общем, пока он так выл, едва наша охрана подоспела — а то бы Барсука как пить взять — схавали б и растоптали: за хвост и башкой об угол. Это точно — композиторы, они слов не понимают: у них сплошные чувства, звуки — звери прям какие-то…
Думал я, что на этом все. Что меня теперь восвояси отпустят. Но не тут-то было. Ошибся я. Причем трагически. Прямо как Федра какая ошибся. Или — петух, который через думку свою окаянную попал в ощип, — тоже фигура трагическая, не хуже Антигоны.
После Ростроповича последовал один актер. Добрейший дядька, понравился мне очень. Забурились мы к нему у Белорусского вокзала. Поднимаемся — смотрю, а в дверях, черт возьми, Генрих IV стоит, из моего любимого кино, только не в латах, а в трениках и в рубахе навыпуск…
Приветил нас актер, накрыл стол, бутылки откупорил и песенник достал — все как полагается. Только недолго у него мы загащивались.
Поорал Барсук вдоволь «Выхожу один я на дорогу», и тут мне поблевать захотелось. Иду срочно в ванную, но смотрю краем глаза — Генрих за мной. Ну, думаю — мало ли чего, может, руки охота ему помыть. Однако ничуть. Стою я, блюю мало-помалу, а король мне в ковшике подносит воды с марганцовкой. Красивая у него ванная — я отметил: кругом кафель с корабликами-рыбками всякими, и еще особенно запомнил — на полке под зеркалом стоял шампунь забавный: прозрачная банка с буквами, внутри — сияет янтарь жидкий, а в нем здоровенный жук-олень, — а как он туда рогами через горлышко поместился — чудно, неясно.
Черпает Генрих мне, значит, третий уже ковшик, а после ласково так массаж по спине, по плечам запускает. А я, дурак, расслабился зачем-то — давно никто не уделял мне ласки: жену, идиот, телом вспомнил, чуть слезой не пришибло. И на жука того в колбе смотрю-смотрю: чудится мне все, что он рожки мне делает, шевелится. Если б не жук — точно бы разревелся…
Хорошо, я вовремя очнулся: в зеркале Барсук из дверей залыбился. Я ж от измены такой обстремался срочно.
Спасибо, говорю, Генрих Антонович, но я совсем не по этой части. Просто, говорю, жена от меня ушла.
Добрый Генрих тоже смутился.
— Ничего, — говорит, — извините, бывает.
Говорю ведь: превосходнейший человек — не только что фильм отличный. Жаль, что мы срочно так от него ушли: Барсук снова тошнить захотел. Причем кричит: надо ему на воздух. Воздух, орет, мне дайте, — и во двор без лифта деру, — мы за ним, ясное дело: всю песочницу заблевал, едва дети спастись от дядьки страшного сумели.
А потом — кошмар, что потом случилось. Вообще, на первый взгляд мы совершенно произвольно, совсем не руководствуясь принципом наикратчайшести, колесили по городу, время от времени будто случайно выныривая там, где надо. Этот способ передвижения, этот способ проистекания пространства странным образом напоминал принцип лотереи: где мельтешение шаров, злобно будоража мертворождающееся будущее, содержит абсолютно все ваши куши, — но выскакивающий нумер раз за разом приходит точно по назначению: на убийство ваших шансов. Однако, приглядевшись к городским рекам и речкам, проистекавшим в окне «понтиака» (передвижение по столице вообще похоже на путешествие по дельте могучей реки, имя которой — Государство), я вдруг заметил, что видение города происходит по какому-то совсем не случайному плану. Что оно движется со своими особенными монтажными ужимками и выкидонами, будто беспредел катаний на «понтиаке» дадаистическим образом составляет мне метраж исторического фильма. Всю дорогу мы норовили замедлиться или вообще беспричинно тормознуть у какой-нибудь известной городской усадьбы. Так, мы минули кратким постоем — тургеневский мемориальный домик на Пречистенке, где Иван Сергеевич почти и не живал, страдая от вечного раздора с норовистой своей матушкой; на Поварской у дома Ростовых мы прокатывались едва ли не три раза сряду, а после сразу же рвали зачем-то поверх Крымского брода на Воробьевы горы, понятно — с залетом через Хамовники, чтоб, будто нарочно, дать крюк у Девичьего поля, где стоял каретный балаган, содержавший Безухова и Каратаева в плену у французов. Я уж не говорю о бесчисленных проездах по Аучевым в Сокольниках, где Пьер за сучку Елену подстрелил Долохова. А также о разлетах у Дома на набережной, через Каменный мост, на Театральный и Лубянский, к Музею Маяковского; а потом с залетом на его же мемориал на Пресне, 36, мы рвали к «Яру» на Грузинах и после сразу на Солянку, к Трехсвятительским, к дяде Гиляю, на «Каторгу» и к Ляпинским трущобам, хранившим великого Саврасова… Вот там как раз я не выдержал, укачавшись поездкой, и хорошенько проблевался под минералочку под флигелем Левитана, стоявшим во дворе Морозовской гостиницы, где в подвале эсеры держали в заложниках Дзержинского… И хотя я и был сурово пьян, но то, что мне город собирался указать этим «кино», меня волновало больше, чем Барсук, во сне слюняво кусающий мое плечо, как младенец мамкин локоть…