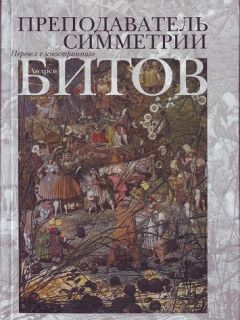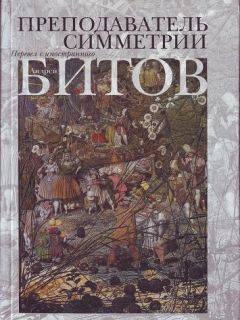Хоть я ему и опасался уже не верить, настолько все у него чем-либо да подтверждалось, хотелось мне побольше прознать не про Луну, а про обстоятельства гибели Роберта Скотта. Тут он как-то особенно таинственно замыкался и начинал играть желваками.
— Это вы говорите, что живая собака лучше дохлого льва! А я вам скажу: если бы лев был бы лисой, он был бы хитрым! (Как я уже говорил, Антон любил щегольнуть своим английским, в данном случае понятия не имея, что цитирует Уильяма Блейка.)
— Убью! — тут же решительно заявил он.
— Кого же? — поинтересовался я.
— Да чухонца этого!
Оказалось, он имел в виду Roald Амундсена.
— За что же?
— У него собаки были лучше! Вот он и воспользовался… Ах, Роберт, Роберт! Почему ты меня не послушался? Почему не взял с собой?
И Антон разрыдался.
Искренности его тоже приходилось верить.
Вот как я понял в конце концов эту историю…
…Он экономно закупил правильных лошадок, и лейтенант Брюс рекомендовал его в состав экспедиции; Скотту он тоже понравился, и Антон был зачислен. Он должен был провожать и встречать направляющихся на Южный полюс, порывался следовать за ними, но по молодости был оставлен с лошадками. („Опять же потому, что я русский, — с обидой комментировал Антон. — Хотя какой я русский, когда я хохол!“; не буду вдаваться в лишние подробности, но хохол оказался тот же русский, но с особой прической.) Но и с лошадками он достиг 840 ю. ш. „Всего-то шесть градусов оставалось! — досадовал он. — Зато я на вулкан слазал! Почти и залез, но ошпарился“.
И это казалось похожим на правду, хоть он и называл Эребус непривычно Эльбрусом (есть такой потухший вулкан в России).
За все это и был он награжден Her Majesty. За это же был исключен из состава следующей экспедиции и теперь бичевал в тоске по своему кумиру Скотту. Весть о трагедии и свела нас за стойкой паба, носившего подходящее название „Э Тайрд Хорс“[13]
„И где же тут сюжет?“ — спросите вы. „Тju-tju![14] — отвечу я любимым словечком утраченного друга. — Я все еще к нему пробиваюсь“.
Антон именно тю-тю: исчез так же, как и появился, — будто утонул в одной из кружек.
У Антона было много любимых словечек, некоторые даже английские. Не только „ноумен“,[15] но и „ноухау“.[16] Neekhujaneeknowhow-knowhowneekhuja,[17] — напевал он печально, и это очень ласкало мой слух. „Опять же, — говорил он. — У вас network[18] — вместе, а у нас раздельно: нет работы“.
Но если я его все лучше понимал за стойкой в пабе, это не значит, что я хоть что-то понял, когда получил от него через несколько лет такое письмо:
„Deap fpehd! Raitin Engliш fёrst taim in mai laif! I rite uyo in zaimka, haunting uan Amerikan. Zei a not rial soldжeps! Bat weri welll ikvipt! We a hauntin zem laik kuropatok — smol Raшn vaild hens — uan пропе шot end sri auрs ken bi dresst. Its raze kold tu veit — I dreem abaut a guud шot of Whisky — luuk! I remembe hau it voz rittn on ze бotel! — viz uyo, mai Dalin! Bat tu fa iz ёz Anton! Друг (вор-frend) подполз тихой сапой с самогоном (aue Whicky)“…………………………………………………………………………………………………
Не буду далее утомлять вас этим чтением, а себя копированием каждой буквы. Мне и так, даже с помощью приятеля-слависта, было непросто разобраться. Сначала мне показалось, что, отвоевав с немцами, он попутал слегка языки: эти „глубокие лошадки“,[19] в качестве ко мне обращения, меня смутили… славист попался на „заимке“, долго блуждал в своем кастле (замке), пока окончательно не застрял в тихой сапе. Но и переведенное на английский, письмо становилось не более понятным:
Дорогой друг! Пишу по-английски впервые в жизни! Пишу тебе в ямке, охочусь на американца. Они не настоящие солдаты, но очень хорошо экипированы! Мы охотимся на них как на куропаток (маленьких русских диких кур): трое могут одеться с одного удачного выстрела. Довольно холодно его дожидаться — я мечтаю о хорошем глотке виски (смотри, как я правильно написал — я запомнил это слово на бутылке!) с тобой, мой дорогой! Но слишком далеко твой Антон! Мой боевой френд (друг) тихо подполз по траншее с самогоном (рашн виски)… За твое здоровье…………………………………………………………………………………………………………
Я был очень растроган, когда наконец разобрался. И немедленно выпил его здоровье, но как же это будет по-русски „охотиться на американца“?! Пришлось прочесть все до самого конца. Письмо было чем длиннее, тем менее связно.
My Lord! Как я от всего этого устал! От этих сносок, от этого псевдоперевода.
Перехожу непосредственно к сюжету. История рассказана мне тем же Антоном.
Частью в пабе, частью в письме. Попробую наконец выстроить последовательность.
До того, как его во Владивостоке подобрал лейтенант Брюс, пребывал он достаточное время в сибирском городе Тобольске, откуда родом великий Дмитрий Ivanovich Менделеев (1834–1907), которого русские почитают за первооткрывателя Периодической системы элементов. Я справился в Britannica:[20] все не совсем так, что он совсем уж первый, наши, конечно, были раньше, но он семнадцатый (siс!) сын в семье и ему уделен целый столбец, что уже большая честь для русского. Во всяком случае, он эту таблицу сумел завершить окончательно с помощью валентностей (не знаю, что это). Но Антон, насколько я помню, уважал его не столько за это, сколько за то, что тот окончательно (научно!) определил, что русская водка должна быть только сорок градусов (не больше и не меньше). Это его научное открытие в Britannica никак не упомянуто, поэтому может оказаться правдой.
…Не думайте, что я настолько отравился Россией, что опять ухожу в сторону, потому что на этот раз я уже приступил к сюжету, ибо сюжет этот о первенстве. Мы много спорили с Антоном именно об этом. Получалось, что русские все придумали первыми: и воздушный шар, и паровую машину, и паровоз, и телеграф, и телефон, и электрическую лампочку, и радио, и самолет… только до ума не довели. (Он называл и некоторые имена, но ни одного из них в „Британнике“ я не нашел; „А у нас энциклопедия другая! — легко парировал Антон. — Поновее“). „Разве может человек по фамилии Ползунов[21] (Черепахов!) изобрести паровоз? — в другой раз сердился Антон. — Вот он и пополз, как черепаха, а не поехал! Вот и остались при русской печи и самоваре… Конечно, Стефенсон[22] другое дело! Мудрец…“ Тут он расстраивался и затягивал Dubinushka.[23] Песня мне очень нравилась, особенно это: „Эх, зеленая, сама пойдет!“ Какая зеленая? куда пойдет??
„А вот, увидите, — взбадривался Антон после третьей „Эй, ухнем!“. — Вы, англичане, конечно, мудрецы… А всё, что сгорает изнутри, все равно наше! И когда нашу печь с самоваром удастся соединить, мой Тишкин вам покажет! Луна станет наша, как и Антарктида!“
Вы спросите: кто такой Тишкин, уж не Антон ли?
А вот наконец-то и нет. Тишкин и есть герой нашего сюжета.
Тишкин был бомбист (террорист, по-нашему), но не боец, а человек ученый, лишь разрабатывал технологию изготовления, за что и был сослан в Тобольск. Освободившись от примитивной возни с бомбами, пристроившись учителем в реальное училище, отдался он наконец любимой Науке, изобретая ракету, чтобы долететь до Луны. То, что сам Менделеев тоже из Тобольска, очень вдохновило его. Научные интересы д-ра Тишкина были, однако, слишком разносторонни, чтобы не отвлекать от основной задачи: местная флора и фауна, минералогия, астрология, фольклор… Был он сосредоточен на всем и ни на чем, высок, плечист, бледен и чернобород, и местные невесты тут же влюбились в него, но он этого не замечал, поскольку уже успел влюбиться без памяти сам, а его избранница, в свою очередь, этого не заметила.
Была она не из красавиц, не из невест; маленькая, круглая, румяная, тугая, как репка… Трудно было заподозрить в этом тельце столь невероятный голос! Пела она в церковном хоре, но более прославилась своими старинными народными распевами, которые прихватывала у различных бабок и запоминала в точности; Тишкин и заинтересовался ею поначалу как фольклористкой-самородком. Самородком она в этом смысле, может быть, и была: голосила так, что любому душу выворачивала, — но звали ее Маня, Маней она и была. Репутация же у нее была самая легкомысленная: и выпить любила, и поклонниками не брезговала. Никто не мог твердо сказать, кому она отдавала предпочтение, поэтому подозревались все, о чем и доносилось поспешно нашему Тишкину. Он же на нее, что называется, запал, а был он из тех, для кого ревность и была основным источником страсти: чем больше погружался он в одну, тем более возрастала другая.
Я всегда ухохатывался, прислушиваясь через стенку, как Тишкин выяснял отношения с Маней. (Там были особенно скрипучая кровать и половицы, скрипы различались по тональности: приблизительно хрум-хрум и скрип-скрип.) Удовлетворив все свои первые непобедимые желания, плеснув себе и подав ей в постель рашн-виски, он раскуривал, для значительности своей удовлетворенности, трубку (была у него такая, с длинным чубуком) и начинал расхаживать из угла в угол, скрипя уже половицами.