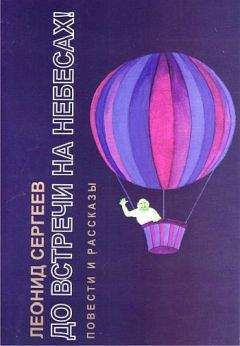— Ну, ничего, — сказала Либет. — У нас недавно Тургенев вышел как Иван Семенович.
Вот так. Ни ума, ни такта. Новое отчество «Антонович» меня совершенно не огорчило, но за Тургенева было обидно.
Кстати, и Цыбина, обосновавшись в Израиле, как-то объявилась в ЦДЛ и подошла к нашему столу (к тому времени у меня уже вышло несколько книжек и парочка продавалась в холле ЦДЛ). Я сидел с писателями, которых она знала гораздо лучше, чем меня, но почему-то обратилась именно ко мне:
— Как Леня ваши дела? Как поживаете? (и с чего бы вдруг забеспокоилась? То ли была удивлена, что я еще жив, после того, как старательно мне «перекрывала кислород», то ли в ней проснулись запоздалые угрызения совести?).
Сейчас-то я послал бы ее к чертям собачьим, а тогда оторопев, пробормотал «неплохо», ведь тоже был удивлен — и не столько обращением ко мне, сколько жалким видом некогда могущественной редакторши (по слухам, на исторической родине ей не очень везло).
Теперь, когда расправился со своими обидчиками, можно вернуться и к классикам, но, пока не забыл, еще немного вдогонку о Приходько, который, кроме меня, впихивал в литературу еще несколько поэтесс (меня под зад коленом, а их, поглаживая по этим самым местам); он также вытащил на свет не одно забытое имя, что, понятно, благородное дело. Честно говоря, я думал — он просто чрезмерно восторженный человек, оказалось далеко не так. Например, он громил и Успенского, и Кушака, да и многим другим от него доставалось — он имел странно направленный вкус, и если уж ему что нравилось, отстаивал с пеной у рта; иногда это выглядело заскоком — не раз он вдалбливал нам, что Холин гений — ну, серьезный литератор станет такое молоть? По отношению ко мне у него был явный бзик — он взял себе роль моего крестного. Не раз мне сообщали:
— …Недавно в одной компании тебя начали поливать, но Приходько сразу вспыхнул: «Оставьте Сергеева в покое!».
Но в глаза мне «крестный» говорил немало гадостей:
— Леня, ты полный дурак. Тебе не оценить такую женщину, как Юля (или Катя). Ты ничего не понимаешь.
Или:
— Ленечка, дорогой, пошел ты к е… матери со своими дружками. Все они идиоты и ты идиот. Ты ничего не понимаешь. Абсолютно ничего. Пиши лучше свои рассказы и не лезь туда, в чем ничего не петришь.
На мои дни рождения, не стесняясь незнакомых ему людей и моих женщин, Приходько выдавал одно и то же поздравление:
— Сергеев алкоголик, отпетый бабник, сумасшедший, негодяй, но он хороший писатель, не оцененный по достоинству…
Я съеживался от неловкости — вроде еще не умер, а уже зачитывают эпитафию, хотя, не скрою, его заключительные слова мне нравились.
Одно время в ЦДЛ ходил упорный слух, будто Приходько сотрудничает с КГБ, и не случайно, мол, редакторши «Детгиза» заискивают перед ним. Поэт М. Синельников не раз мне говорил:
— Знаю точно, Приходько КГБэшник.
Многие считали и Мазнина стукачом, а полусумасшедший литератор Э. Карпачев написал на одной из стен ЦДЛ: «Кушак КГБшник». Но это уж чушь собачья. Просто в недавнем прошлом подозрительность доходила до идиотизма. Позднее тот же Карпачев мне звонил и срывающимся голосом сообщал, что «КГБ его облучает».
Меня куда-то занесло, хотел-то о классиках, исторических фигурах. Ну, так вот, с Анатолием Алексиным мы несколько раз общались в Доме литераторов, сидели за бутылкой водки втроем: классик, Коваль и я; мы с Ковалем пили водку и болтали о всякой всячине, а Алексин потягивал сок и с глубокой скорбью на лице, тихо, вкрадчиво изображал самого несчастного на свете — жаловался на здоровье и семейную жизнь, на то, что раньше нельзя было писать «ни о том, ни о сем», даже пожаловался на безденежье — «приходиться продавать мебель». Тут уж Коваль его остановил:
— Но Толя, ты же катаешься по заграницам (они были на «ты»). Тебя только в Америке десять раз издавали, а нас с Ленькой ни разу, едрена вошь! А мы, между прочим, тоже не последние писатели. Я, к примеру, посильнее и Петрушевской, и разных Пьецухов, а Ленька пишет, как я (он всегда завышал меня).
— Да, дорогие мои, — бормотал Алексин. — Я все делаю, чтобы печатали молодых. В следующий раз в Америке договорюсь обязательно.
И договорился. Издал свои «бессмертные творения» в Америке в одиннадцатый, а потом, тихой сапой, и в двенадцатый раз (такая у него хватка). И опять нам с Ковалем жаловался, прибеднялся с фальшивой искренностью, выдумывал трагедии (его жизнь постоянно оказывалась тяжелее, чем у всех. Попутно замечу — сейчас, проживая в Израиле, он катает мемуары — как ему трудно жилось при коммунистах и все такое; по словам А. Баркова, перед отъездом украл из «Детского фонда» миллион рублей). И как он, классик хренов, не понимал, что нытиков не любят, что у всех есть неприятности, но не все о них скулят. Тем более, что его неприятности высосаны из пальца.
По словам художника Льва Токмакова, который прекрасно знал Алексина, в свое время классика, «как своего по крови», сильно проталкивал Кассиль.
— …Алексин мерзкий человек, — говорил Токмаков. — Жутко хитрый и лизоблюд. Как-то сижу у него. Заходит молодой автор. Он берет со стола папку с рукописью этого парня, «прочитал» — говорит и ругает парня, на чем свет стоит. Когда парень ушел, Алексин махнул рукой — «этот с улицы», и нежно погладил вторую папку — «а это сын прокурора написал, надо немного поправить».
А. Барков, тоже неплохо знавший Алексина, усмехался:
— Когда его приглашали выступить перед детьми, он заламывал большие суммы. Детский писатель называется!
Что, кроме беспочвенных страданий, запомнилось от застолий с Алексиным, так это какая-то сентиментальная муть, которая его окружала. Он явно интересовался женщинами (так и рыскал глазами от одной к другой), но пытался скрыть свой интерес; явно хитрил, когда жаловался на судьбу, изображал беззащитную овечку, пытался предстать борцом за детскую литературу… На самом деле боролся за свое благополучие, и вполне удачно: был секретарем Союза писателей, имел кучу орденов и премий, входил во все фонды, комиссии и делегации (и как «одна кобыла столько везла?»). Кстати, у каждого секретаря Союза автоматически выходило собрание сочинений, которое непременно переводили все Союзные республики — это давало возможность спокойно здравствовать десятки лет, и не только это конечно.
У Алексина были холено-пухлые щеки, томный взгляд и вкрадчивый голос; когда я смотрел на него, аморфного, в голове почему-то вертелось: «человек с таким бабьим лицом не может быть хорошим писателем».
Алексин хотел остаться в памяти потомков не только классиком, но и защитником детских писателей. Он не скрывал своего прицела:
— Так хотелось бы, чтобы ваше поколение отметило мою тяжелейшую борьбу, мои заслуги.
Не знаю, чем ответит на его призыв все мое поколение, но я ни одной книги Алексина так и не одолел — по-моему, их невозможно читать. И, кстати, прозу Кассиля закрывал после первых же абзацев. Как ни пытался выцарапать лучшее в их работах, ничего не нашел — обычная конъюктурная писанина, банальная размазня. А вот Носова перечитал, будучи взрослым, и впечатление было не менее сильным, чем в детстве.
Агния Барто всегда опаздывала на редколлегию в журнал «Детская литература», приходила, когда уже вовсю шли выступления; при ее появлении раздавались возгласы:
— А вот и Барто!
И все благоговейно взирали, только что не вскакивали, и не аплодировали. Я думаю, это «торжественное явление» было четко продумано (чтобы привлечь особое внимание) и потому имело соответствующий эффект.
Художники, которые иллюстрировали Барто не раз жаловались, что «Бартиха» донимает их требованиями, а молодые сподвижники «по цеху» были недовольны, что она разговаривает излишне строго, не терпит возражений, всячески дает понять, что ее слова и есть сама истина; хотя тех, кто ей льстил, она «нянчила» (в частности Мазнина и Кушака).
Однажды мы с Мазниным провели целый вечер в обществе Барто (я, собственно, был сбоку припека); она рассказывала, как занимается воссоединением семей, разрозненных войной (позднее выяснилось, что это благородное дело ей нужно всего лишь для саморекламы). Я жадно слушал поэтессу, а Мазнин постоянно встревал, в порыве любвеобилия и так и сяк превозносил поэтессу, прикладывал ее руку к сердцу, к щеке, но она его не останавливала, боялась задеть высокие чувства поэта. Само собой, ей были приятны излияния поклонника; она даже не испытывала неловкости передо мной, случайным слушателем. В конце концов «налив глаза» Мазнин переборщил — стал пороть всякую чепуху и целовать поэтессе руку:
— …Агнюша великая, гениальная!
Тут уж я не выдержал:
— Игорь, перестань! Ну что ты, в самом деле!
— Да, Игорек, пожалуйста, не надо, — слабо запротестовала поэтесса, а в мою сторону бросила тяжелый взгляд.