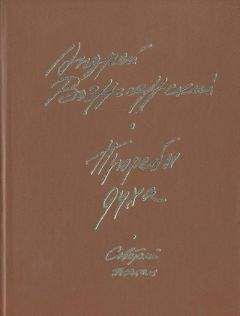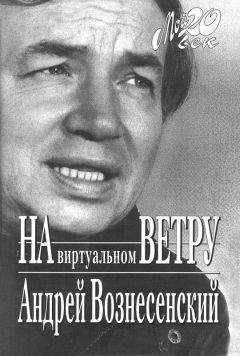Но зато ты научила меня науке воспоминания. «Вы, люди, чтобы увидеть прошедший образ, оглядываетесь на ту же точку, где он был. Но там его уже нет. Вы так ничего не увидите. Чтобы попасть в утку, надо стрелять на три утки вперед. Прошлое летит перед вами. Глядите в сейчас и вы увидите прошлое».
Так, глядя в сегодняшние работы Мура, я вижу просвечивающие сквозь них вчера и сегодня.
Странная вещь память! Когда Никита Михалков поставил «Пять вечеров» по Володину, оказалось, что он детально помнит быт послевоенной Москвы, несмотря на свой возраст.
Иногда ты пошаливала. Шутки у тебя были дурацкие. Подкравшись сзади, ты сталкивала меня в чужую память и судьбу. Я становился то Гойей, то Блаженным. Ну и досталось же мне, когда я забрался в Мэрилин Монро!
Отчаянно ревнива ты была!
Стоило женскому голосу позвонить, как ей из трубки в ухо ударял разряд. Глохли. Многие лысели. Стоило мне притронуться губами к чашке — ты разбивала ее. Особенно ты ревновала к прошлому. Ты сладострастно выведывала, вынюхивала память о моих давних знакомых. Ты озарялась. Как злобна и хороша ты была! Я подозреваю, что ты даже могла влюбиться из ревности, а не наоборот. Уже давно забывшие обо мне, ничего не подозревавшие мои знакомые вдруг теряли слова на сцене, разбивались на машинах, по рассеянности подносили спички вместо газовой конфорки к бумажному халатику и горели синим пламенем.
Окружающие осуждали. Завидя нас, вибрировали. «Чаще заземляйся», — посочувствовал проносящийся Арно и поспешно поднял стекло. Позвонила тетя Рита: «До меня дошли слухи, которым я не верю. Но чтобы не усугублять…» «…ять, ять, ять», — захулиганили феи телефона. Тут я вспомнил, что тетя Рита год как умерла.
Но сейчас даже отверстия в скульптурах не напоминают мне о тебе.
Отчего великим скульптором именно XX века стал сын английского шахтера?
Англия — островная страна, скульптурная форма в пространстве. Космонавт рассказывал, что Англия похожа на барельеф. Англичанин рождается с подсознательным мышлением скульптора. Надутые ветром белые парусники уже были пространственными скульптурами. Ставший притчей во языцех английский консерватизм тяготеет к замкнутой структуре. Традиционные английские напитки виски или джин с кубиками льда, погруженными в прямые цилиндрические бокалы, имеют скульптурную композицию.
Только два года назад англичане начали пить вино — бесформенную, изменчиво льющуюся субстанцию. Сейчас появились винные пабы.
Когда английским поэтам понадобился символ, эмблема, они взяли чистую форму озера, став озерной школой. Сын недр, Мур выразил замкнутую островную форму XX века.
Но не только место рождения сделало его скульптором века.
Этот дом свой, названный «Болота», служивший ранее фермой, скульптор купил в 1941 году, после того как его прежнюю мастерскую разрушила авиабомба.
Мур стал знаменитым в 1928 году, после Орлгстонской выставки. Необходимым, своим для миллионов людей он стал после рисунков «Жители бомбоубежища». Стихия народной беды и истории задула в трубы муровских дыр. Каждую ночь сто тысяч лондонцев прятались в метро от жесточайших бомбежек. Они приходили, располагаясь с вечера на платформах, со своими снами и незамысловатым скарбом.
Сын шахтера стал Дантом военного метро. Серия станковых рисунков, каждый размером около полуметра, была выставлена во время войны в Лондонской национальной галерее. Думаю, что это самое сильное, что было создано во время войны западным искусством.
Вот эти рисунки. Огромная дыра туннеля засасывает тысячи крохотных, оцепенелых во сне женщин. Следующий рисунок — крупный план. Открыв рты, закинув онемелые руки, четверо спят под общим одеялом. Цветное одеяло похоже на волны времени. Сидящие рядом, как тутовые куколки, фигуры обмотаны пряжей пастельного штриха. Длинные волокнистые линии карандаша как бы опутывают их цепенящей паутиной. Точка зрения выбрана художником снизу, как бы лежа или сидя рядом с ними.
Время не случайно выбрало Мура. Вся его художническая жизнь была как бы подмалевком к этим работам.
— Я увидел там сотни лежащих фигур Генри Мура, разбросанных вдоль платформ, — вспоминает создатель. — Даже дыры туннеля, казалось, похожи на дыры в моих скульптурах. Я очень остро осознавал в рисунках бомбоубежищ свою связь со страданиями людей под землей, — добавляет он.
Вот рисунок двух женщин. Есть замедленное величие в их тогах из одеял. Они напоминают фигуры фресок его любимого Мазаччо. Шнурообразный штрих походит на Дега. Иногда мелькают мотивы Сезанна.
Казалось, что вся мировая культура ожидает гибели в туннелях бомбоубежищ.
Ночами Мур спускался под землю. Он бродил мимо заспанных фигур, по нескольку раз прицеливался глазом, потом отходил в угол и украдкой делал крохотные наброски на конверте или тайном клочке бумаги — заметки для памяти. Он стеснялся смущать людские страдания своим соглядатайством. Виденное он переносил дома на ватман. Он работал пером, индийской тушью, восковым карандашом и размывом.
Мастер вспоминает, как он открыл технику рисунка. Но главного своего секрета он недоговаривает. Когда он нагнулся за рисунком, я увел его угольный карандаш. Он был без грифеля. В нем была спрессованная память, оправленная в деревяшку черная дыра. Но молчок! Пусть думает, что я не догадываюсь. Рассказывает же он так:
— Я нашел новую технику. Я использовал несколько дешевых восковых карандашей, которые куплены в Вульворте. Я покрывал этим карандашом самую важную часть рисунка, под воском вода не могла размыть линию. Остальное без оглядки размывал и потом подправлял пером, тушью. Без войны, которая направила нас всех к пониманию истинной сущности жизни, я думаю, я многое упустил бы. Война выявляет ноту гуманизма в каждом.
То же оцепененье бомбежек оркестровал Элиот в своих бетховенских «Четырех квартетах»:
В колеблющийся час перед рассветом
Близ окончанья бесконечной ночи
У края нескончаемого круга,
Когда разивший жалом черный голубь
Исчез за горизонтом приземленья
И мертвая листва грохочет жестью.
И нет иного звука ка асфальте
Меж трех еще дымящихся районов…
Эта тема связала Элиота со стихией народной судьбы, сделала его музу общечеловеческой, по сути массовой. В Лондоне идет сейчас рок-опера «Кошки» по его стихам, где судьба городских трущоб, крыш, городского нутра, нищеты города слилась с интеллектуальной нотой поэта. Вообще рок-опера и широкая музыка все чаще и чаще обращаются к серьезным текстам, к судьбам времени.
С дантовских перекрытий бомбоубежищ капает вода. Фигуры оцепенели в ожидании. Меркнет лампочка без абажура.
У меня затекает нога. Хочу повернуться, но тесно. Щеку шерстит мамина юбка. С бетонных сводов серпуховского бомбоубежища капает — то ли это дыхание сотен людей, становящееся влагой, то ли сверху трубы протекают?
Рядом клюют носом бабушка и сестренка. Бабушка всегда прихватывала с собой свою маленькую подушку, думку, как ее в старину называли.
Я, как самый маленький, лежу на матрасике, который мы носим с собой. В спину упирается что-то. В матрас зашиты нехитрые драгоценности нашей семьи — серебряные ложки, бабушкины часы и три золотых подстаканника. Во время эвакуации все это будет обменено на картошку и муку.
Вокруг, захваченная врасплох сигналом воздушной тревоги, наспех отмахивается от сна, протирает глаза, достегивается, подтыкает шпильками волосы стихия народного бедствия. Реют обрывки снов. Воспаленно хочется спать.
Это в основном семьи рабочих. Наш дом от завода Ильича. Несмотря на пыль подземелья, многие наспех одеты в праздничные добротные вещи, в самое дорогое на случай, если разбомбят. Кончается лето, но некоторые с шубами.
Так на ренессансных картинах, посвященных темам Старого и Нового завета, страдания одеваются в богатые одежды.
Заходится, вопит младенец, напрягая старческую кожицу лица, сморщенную, как пунцовая роза. Распатланная мадонна с помятым от сна молодым лицом, со съехавшей лисьей горжеткой убаюкивает его, успокаивает, шепчет в него страстным, пронзительным нежным шепотом: «Спи, мой любимый, засранец мой… Спи, жопонька моя, спи».
Для меня слова эти звучат сказочно и нежно, как «царевич» или «зоренька моя».
В незавязанных ботинках девчонка из соседнего дома, связанная со мной тайной общностью переглядки, пыхтит, тискает щенка, хотя это и запрещено. Щенок спрятан в платок, но вылезает то серой лапой, то черным носом, как серый волк из сказки о Красной Шапочке. Бабушка Разина похрапывает, привязав к ноге чемодан с висячим замком, чтобы не уперли, во сне дергает ногой. Это напрасно. Никого не обворовывали.
Местный вор Чмур, изнемогая от бездействия, томится головой на коленях у жены, которая вдвое старше и толще его. «Чмурик, ну Чмурик», — успокаивает она его душу, как уговаривают вдруг заворчавшую во сне овчарку.