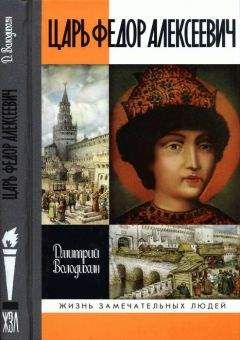Ознакомительная версия.
— Продолжайте…
— Продолжаю. Но революции на горизонте не предвидится. Поэтому есть пьеса благочестия. Перед вами на сцене главным образом статисты столичного водевиля из жизни ученых…
И Тарутин с развеселым видом бесстрашного парня, как если бы обрел вечную неприкосновенность, снова показал бутылкой на притихших гостей в комнате, где в кладбищенском безмолвии, в оледеневших лицах накалялась, нарастала неподвижным ураганом ненависть, ощутимая душным туманом в уплотняющемся сигаретным дымом и дыханием воздухе. Но, вероятно, сбитые с толку присутствием высоких лиц, никто из гостей не осмеливался первым проявить ни громкий протест, ни возмущение, ни гнев. И только иные в недоумении переглядывались, объясняя друг другу злыми глазами, что неуправляемая огорчительная случайность свела их в общество с душевнобольным, и здесь ничего не поделаешь. Потом в углу гостиной прерывистым вздохом прошелестел женский шепот: «Как же он нас ненавидит», затем осторожненько стукнула чья-то рюмка, поставленная на столик, и тогда Улыбышев, возбужденно тряся очками, поворачивая остроугольное, покрытое пятнами мальчишеское лицо то к Битвину, то к гостям, то к Тарутину, вскрикнул с отчаянием:
— Как же это так? Все мы вместе — целый мир! Друзья, не надо этого, не надо разъединяться!.. Не надо!
— Наивный мальчик, мы живем в несчастливом мире, — перебил Тарутин и со скучным лицом погладил Улыбышева по заросшему затылку. — В загнившем подлунном мире, где издревле ничтожество и придворные солисты способны самоотверженно чавкать, пить, как вот мы сейчас с вами, Яша. Оно вечно, ничтожество. А сейчас пришло его царство.
— Да вы просто Чацкий! Вы — невменяемы! — оглушительно и трескуче захохотал Козин, перекашивая узкие прямые плечи, словно пиджак его стискивал, щекотал под мышками, и вдруг стрелой нацелил длинный коричневый палец в грудь Тарутина. — Вы — жалкий клеветник, позвольте вам сказать! Вы, милейший, облили грязью всех присутствующих и уважаемых здесь людей! Опорочили звания интеллигента и ученого! Вы не постеснялись ни присутствующих дам, ни Сергея Сергеевича, ни своих коллег, как бы вы к ним ни относились! Я позволю себе думать, что это в высшей степени некорректно и низко! Гиньоль!
— Филимон Ильич, — поморщился Тарутин. — Вы слишком обременены постами и должностями, чтобы позволить себе думать. Какая должность вас дернула назвать меня клеветником, да еще жалким? Сердечно сожалею, что сейчас немодны дуэли и не бьют физиономии. Поэтому в присутствии Сергея Сергеевича позволю себе оскорбить вас следующим образом. Вы, как и многие в сонме наук, — молодец с горящими глазами. Вы ведете нас от одной победы к другой, то есть к счастью. Вот видите, насколько я уважаю старость и как я интеллигентен по сравнению с вами.
По-видимому, всем, кто стоял рядом, показалось, что в следующий миг Филимон Ильич ударит Тарутина, — так негодующе передернулась вся его рослая фигура, так режуще сверкнули безжалостной ненавистью его глаза, так сатанински вздернулась его бородка. Но сейчас же Битвин, с каким-то тщательным интересом слушавший Тарутина, высвободил руки из-за спины, сделал останавливающий жест.
— Надо полагать, излишне переходить на личности, Николай Михайлович. Что касается ваших некоторых… не всех, не всех… некоторых суждений о науке, то не преувеличиваете ли вы? У вас, я полагаю, есть и сходные точки зрения со многими присутствующими здесь коллегами!
— Да вряд ли! — решительно возразил Тарутин.
В комнате, уже до предела переполненной предчувствием скандала, возник волнообразный рокот возмущенных голосов, послышались негодующие восклицания женщин, потом трескучий голос академика Козина произнес брезгливо:
— Несчастный завистник! Стыдно за вас! Опомнитесь!
— Стало быть, никаких точек соприкосновения? — настойчиво переспросил Битвин, не замечая движение, нарастающее в гостиной.
«Николай презирает их всех и не скрывает этого, — подумал, хмурясь, Дроздов. — Но что хочет Битвин? И зачем Николай намеренно вызывает злобу у всех?»
— Соприкосновения при одном условии, Сергей Сергеевич, — с насмешливой неохотой ответил Тарутин. — Если бы вы позволили разогнать две трети института. Григорьев этого не смог. Институт чертовски устал под давлением таких несокрушимых титанов административного оптимизма, как академик Козин. Я молчу, конечно, о докторе наук Чернышове. Для него любой малоароматический звук из академии — наивысший закон. Поэтому — я за очищение института. Хирургия, невзирая на лица… У вас, я вижу, нет рюмки? — неожиданно проявляя товарищеское внимание, сказал Тарутин и, глянув на бутылку коньяка в своей руке, деликатно извинился: — Простите, мне хочется выпить, но…
— Действительно. Свою рюмку я оставил в другой комнате, — отозвался Битвин и вскользь оглянулся на лоснящиеся лица гостей. — Впрочем, мне достаточно, — добавил он строго.
Сергей Сергеевич Битвин, занимающий высокий пост, был человеком не робкого десятка. Более того — от него во многом зависело продвижение, ученые звания, награды, благополучие почти каждого находящегося сейчас здесь. Однако Дроздов понимал, что все-таки при твердой своей власти Битвин не всесилен в этом скоплении мужей науки, оснащенных разными групповыми страстями, анонимными перьями, пристрастиями, склонностями и предвзятостями, людей разных, наделенных некими способностями и вовсе не имеющих их, особей так или иначе элитных, к которым не один год принадлежал и гидролог Тарутин, в последнее время открыто и безрассудно не признающий в общении с коллегами благоразумной осторожности, видимо, окончательно придя к какому-то личному решению, лишавшему его необходимости самосохранения.
«Кто распустил слух, что он носит веревку в «дипломате»?» — мимолетно подумал Дроздов, видя, как Тарутин налил себе в рюмку коньяку и сейчас слегка поднятыми бровями искал, кому бы налить за компанию.
Никто не подставил рюмку. Все, кто стоял вокруг Битвина, омертвело молчали.
— Пожалуйста, каплю, — произнесла Валерия, с улыбкой взглядывая на Дроздова.
— Плесни две капли, — сказал он, протягивая рюмку, чувствуя, что враждебное молчание, окружающее Тарутина, становится физически ощутимым, и вдруг, помимо воли, что-то жарко взорвалось в нем против этих ядовито-напряженных лиц знакомых и незнакомых коллег, и он проговорил через силу вежливым голосом: — Тарутин, пожалуй, прав, Сергей Сергеевич. Даже истина порой нуждается в очищении. Все мы попадем в рай, потому что ад уже переполнен грешниками.
— Вот те раз, вот те раз! — воркующе запел Чернышов, в меру удивляясь, в меру осуждая, и, искательно мелькнув глазами в направлении Битвина, неслышно похлопал пухлой ладонью о ладонь, изображая аплодисмент. — Изумительно! Вы парадоксалист, Игорь Мстиславович, вам остроумия не занимать! — заговорил он приподнято. — Но скажите, неужели вы тоже нигилистически настроены к науке? Помилуйте, за что? Вы же не человек экстремы! Все мы служим одному великому делу, а в нашем институте работают прекрасные люди… известные, опытные! В том числе и Николай Михайлович! Конечно же! Но зачем он сердится на своих друзей, которые, поверьте, любят его!..
И добролюбивый, в ласковой своей гостеприимности, сделал подобие поклона толстой, стянутой галстуком шеей, этим поклоном призывая к товарищескому согласию, к доброму пониманию единомышленников, объединенных общей целью.
— Ах, Сергей Сергеевич, — продолжал Чернышов, доверительно снизив голос. — Мне очень хотелось, чтобы сегодня нас сплотил просто дружеский вечер. Я против всяческих междоусобиц. Я хочу этого всей душой. И думаю, что и вы тоже этого хотите, Николай Михайлович. Вы умный, талантливый человек… И я вас очень уважаю.
Он снова сделал ныряющее движение шеей в сторону Тарутина, и от смущения круглые щеки его по-девичьи заалели.
Тарутин равнодушно сказал:
— Самая страшная казнь для сплетников — отрезать уши у тех, кто слушает сплетни. При всем том вы не доросли.
— До кого… до чего не дорос?
— До меня не доросли.
— Славно, славно! Как это мило, вы, Николай Михайлович, удивительный человек, неподражаемый!.. Да, да, не дорос. Почему же не дорос?
— Потому что я — не то, что высказали вы. Лицемер, хитер, тщеславен и не ученый. Точнее говоря, я — профессиональный негодяй. Как и многие присутствующие… Вы не точны!
— Славно, славно! Вы просто начитались Захер-Мазоха! — И Чернышов с умиленным восторгом, будто услышал нечто невероятно остроумное, вторично изобразил пухлыми ладонями неслышный аплодисмент и, придвигаясь к уху Битвина, заговорил, тая карими глазами: — Хочу вам сказать, что в нашем коллективе остроумнейшие люди, вертят словами и так и эдак, одно удовольствие общаться со своими друзьями! Думается, и Николай Михайлович, как всегда, шутил, когда сомневался в компетентности…
Ознакомительная версия.